Можно ли православным убивать тараканов
Прошу прощение, дорогой Читатель. Моя «неумная злоба» направлена не против Вас лично, а против Вашей лукавой и еретической методики вести дискуссию. Лукавство заключается в том, что Вы из контекста вырываете цитаты из Священного Писания, чтобы доказать свою правоту. Действуя по такой методике, можно сказать, что Библия поощряет самоубийство. В истории о предательстве Христа говорится об Иуде: «И, бросив сребренники в храме, он пошел и удавился» (Мф. 27, 5), «иди, и ты поступай так же» (Лк. 10, 37). Приводя как аргумент слова пророка Исаия Вы оставляете «за скобками», почему Господь говорит: «к чему Мне множество жертв ваших?». Дело в том, что перед этими словами Бог «скорбит» и «сетует» на израильский народ: «Я воспитал и возвысил сыновей, а они возмутились против Меня. Вол знает владетеля своего, и осел — ясли господина своего; а Израиль не знает Меня, народ Мой не разумеет. Увы, народ грешный, народ обремененный беззакониями, племя злодеев, сыны погибельные! Оставили Господа, презрели Святаго Израилева, — повернулись назад» (Ис. 1, 2-4). После этих слов становится понятно, почему Господь говорит: «И Я пресыщен всесожжениями овнов и туком откормленного скота…». И далее Бог призывает народ Свой к покаянию, без которого все жертвы не имеют смысла: «Омойтесь, очиститесь; удалите злые деяния ваши от очей Моих; перестаньте делать зло; научитесь делать добро, ищите правды, спасайте угнетенного, защищайте сироту, вступайтесь за вдову» (Ис. 1, 16-17).
Так и в 66 главе Вы проявляете сектантский метод манипуляции Библейским текстом. Приводя цитату: «Заколяющий вола – то же, что убивающий человека», Вы отбрасываете стоящие перед этой фразой слова из 3-го стиха: «Беззаконник же…». И когда читаешь цитату целиком вместе с пропущенными Вами словами, то все становится ясно и понятно.
Пусть Господь Вас вразумит и простит Вашу гордыню, тщеславную самоуверенность и поможет обрести спасительный смысл той книги, «Читателем» которой Вы себя называете.
Похоже, что лукавство может присутствовать при любом толковании Библии. Всякая информация человеком воспринимается через призму его собственных наклонностей. Потому, когда люди уже грешны и оттого готовы есть мясо, после Всемирного потопа выжившие были вынуждены есть мясо и тем самым \»подсажены\» на него, ведь ничего не росло после оттока воды на земле. Потому-то Бог и разрешил его есть. И теперь, при разных климатических условиях на земле, чем холоднее местность, тем тяжелее в ней жить и тем необходимее ее жителям мясо и рыба. Но это ведь не значит, что любой христианин, читающий Библию, хоть в холодном, хоть в теплом регионе, в любых условиях и обстоятельствах его жизни, в непостные дни должен употреблять мясо. Не так, как говорил А. Кураев, сравнивая разрешение Богом есть мясо с постройкой метро в мегаполисе: \»Кто не хочет пользоваться — пожалуйста, его право. \»
Святителю отче наш, Феодосие, моли Бога о нас! 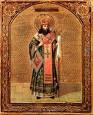
© 2009-2021 Храм свт.Феодосия Черниговского
(03179 Киев, ул. Чернобыльская, 2. тел. +38 066-996-2243)
По благословению Блаженнейшего Владимира, Митрополита Киевского и Всея Украины.
Главный редактор — протоиерей Александр Билокур , Ответственный редактор — Елена Блайвас, Технический редактор — Александр Перехрестенко
Источник
Насекомые
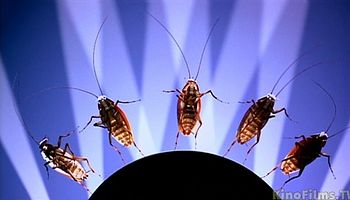 |
| Кадр из фильма «Квартирка Джо» |
Пчелка хороша. Плоды ее сладки для гортани и бедняка, и простолюдина. Муравей хорош. У него нет начальника, но он сам зарабатывает хлеб свой, о чем подробно пишет автор Притч. Вот муха плоха. Настолько плоха, что «король мух» – «Баал зебуб» – есть имя диавола. В привычном для нас произношении это имя звучит как Вельзевул. Так насекомые входят в мир религиозных понятий, и мы вынуждены о них говорить и думать.
Религиозный уровень жизни есть высший уровень жизни. Если насекомые присутствуют в религиозном сознании, то они присутствуют и в поэтическом сознании, хотя сами не очень поэтичны. Стрекоза и Муравей нам известны с детства. Известна Муха-Цокотуха и спасший ее от паука Комарик. Наше мышление мифологично. Комарикам и стрекозам там всегда найдется место, и значение их будет аллегорично. Но в новейшее время насекомые стали входить в поэзию как таковую, причем – всерьез, а если даже и в шутку, то с улыбкой сумасшедшего с бритвой.
Всерьез героем не басни, но стихотворения насекомое стало с легкой руки Достоевского. Рука у него легкая, но раны вскрывает тяжелые и неудобь исцельные. Его капитан Лебядкин пишет стишки про таракана, под которым мы разумеем самого лирического героя – человека, в жизни окончательно потерявшегося и вряд ли найтись могущего.
Жил на свете таракан,
Таракан от детства,
И потом попал в стакан,
Полный мухоедства.
Серьезный труд требует серьезного толкования. Капитан сам и толкует свое творение. «То есть когда летом, – заторопился капитан, ужасно махая руками, с раздражительным нетерпением автора, которому мешают читать, – когда летом в стакан налезут мухи, то происходит мухоедство, – всякий дурак поймет, не перебивайте, не перебивайте, вы увидите, вы увидите». И он продолжил:
Место занял таракан,
Мухи возроптали.
«Полон очень наш стакан», –
К Юпитеру закричали.
Но пока у них шел крик,
Подошел Никифор,
Бла-го-роднейший старик…
Там дальше у него не было окончено. Ясно было только, что старик Никифор выплескивает «всю эту комедию», то есть таракана и мух вместе, в лохань. Такая печальная эсхатология венчает в узел завязанную драму тараканьего бытия. Смешно, не правда ли? Но и немножко страшно.
Почему страшно? Насекомые маленькие, вместе они, правда, неистребимы, но зато поодиночке беззащитны. Совсем как люди. Но если посмотреть на них в увеличительное стекло, то действительно станет страшно.
«Я видел однажды, как подрались муха и клоп. Это было так страшно, что я выбежал на улицу и убежал черт знает куда», – писал Хармс. Обэриуты вообще были близки к капитану Лебядкину. Они чувствовали, что человек мельчает и что личность управляется законами масс. Они чувствовали, что история будет безучастно топтать обезличенные массы людей. И что самим им придется сгинуть в этой беспощадной круговерти, где палачи похожи на немигающих насекомых с «коленками назад».
Один из обэриутов – Олейников – в образе таракана предвосхитил репрессии с пытками и расстрелами. Его жертва прямо перекочевала в литературу XX века из тетрадок капитана Лебядкина. Но это уже не ерничество, а подлинный кошмар.
Написано за три года до расстрела самого автора. Прошу внимания:
Таракан сидит в стакане.
Ножку рыжую сосет.
Он попался. Он в капкане
И теперь он казни ждет.
Ожидая казни, существо наблюдает за вивисекторами с ножами и топорами. Эти люди будут таракана мучить:
И стоит над ним лохматый
Вивисектор удалой,
Безобразный, волосатый,
Со щипцами и пилой.
Подлинная жертва, конечно, не насекомое. Это – лирический герой, который чаще всего есть сам автор, то есть человек. Точно так же человек – герой кафковского «Превращения», проснувшийся однажды в мерзком виде насекомого. Не правда ли, XX век щедро пропитан интуициями родства человека и насекомого и общей трагичности их судьбы, которая, в случае человека, есть еще и фарс. Кровавый, но фарс.
Таракан к стеклу прижался
И глядит, едва дыша…
Он бы смерти не боялся,
Если б знал, что есть душа.
Но наука доказала,
Что душа не существует,
Что печенка, кости, сало –
Вот что душу образует.
Есть всего лишь сочлененья,
А потом соединенья.
Против выводов науки
Невозможно устоять.
Таракан, сжимая руки,
Приготовился страдать.
О, прочтите, прошу вас, прочтите до конца эту короткую стихотворную, полупридурковатую, грубо срифмованную повесть о насекомом, в котором сердце чует что-то более родное и близкое, нежели просто домашнего паразита. Прочтите о том, как:
Его косточки сухие
Будет дождик поливать,
Его глазки голубые
Будет курица клевать.
В некотором смысле это – единственный род поэзии, которой достоин человек, убежденный в том, что кроме «печенки, костей и сала» ничего больше в человеке нет. Удивляться ли, что судьба такого человека (человечества) строится по модели: «По вере твоей да будет тебе»?
Теперь от «чисто литературы» перейдем чисто к жизни. В конце 40 – начале 50-х годов прошлого века увидели свет так называемые «Отчеты Кинси». Это был своеобразный прорыв в области изучения человеческой сексуальности. Отчеты носили специфические названия: «Половое поведение самца человека» и «Половое поведение самки человека». Публикации этих работ и их широчайшее распространение могут рассматриваться (да и рассматриваются) в качестве катализатора движения, со временем получившего название «сексуальной революции». Фрейд поведал миру о подавленных желаниях, о наличии в психике неких тайников, где хранятся, запертые ключом культурных табу, непреображенные сексуальные переживания. Кинси поступил иначе и совершил иное. Он взял голую человеческую сексуальность, пристально рассмотрел и описал ее в доступных ему пределах и… расчеловечил человека. Мы и начинали со стишков Лебядкина, то есть с Достоевского, и заканчивать вынуждены будем им. Митя Карамазов восторженно говорит Алеше: «Насекомым сладострастье. Ангел Богу предстоит». Дескать, пусть молятся те, кто к этому предназначен, а я – насекомое. Мой удел – сладострастье. Вот таким болезненно сладострастным насекомым и предстает человек в работах доктора Кинси. Теперь добавим, что научную шлифовку и ученую степень доктор Кинси получил, занимаясь изучением… насекомых.
Род занятий ложится сеткой и трафаретом на сознание человека. Кто работает в посудомойном цеху, для того весь мир только то и делает, что ест, пьет и что-то недоеденное оставляет в тарелке. Юристы и врачи, сказал классик, развращаются быстрее всех, поскольку имеют дело: одни – с болезнями плоти, другие – с болезнями социума. Ну и «кто в армии служил, тот в цирке не смеется». То, что нам кажется опытом объективным, есть лишь взгляд на улицу из зарешеченного окна – из окна нашей внутренней тюрьмы. И изучая насекомых, вполне естественно и на человека посмотреть под особым углом зрения. Под этим углом зрения вся наша жизнь будет лишь слюноточивой историей о том, как паучок «нашу муху в уголок поволок». Только если у Чуковского есть место и благородству комарика, и чаю с кренделями, и свадьбе, то у энтомолога будет только сухой язык цифр о том, какое же это гадкое насекомое – человек.
Человека нельзя изучать как насекомое. И как примата его изучать нельзя. Его надо изучать только как человека, иначе выводы рискуют иметь некоторые погрешности, незаметные глазу обывателя, но полностью извращающие конечные выводы эксперимента.
Ни химия, ни физика, ни биология не видят человека, не замечают его и, соответственно, не имеют дела с ним, хотя о нем и рассуждают. В результате «человеколюбивая» наука делает некую вивисекцию с «топорами и пилами», как над оным олейниковским тараканом. В XX веке такие вивисекции производились над целыми народами. И все с умным видом, да для всеобщего блага, да ради преодоления предрассудков…
Видно правильно написано:
Кому велено чирикать –
Не мурлыкайте!
Кому велено мурлыкать –
Не чирикайте!
Не бывать вороне коровою,
Не летать лягушатам под облаком!
Вот так полезешь в «чистую науку», а получится у тебя в качестве вывода либо тотальный разврат, либо массовое кровопролитие. Или то и другое разом. Потом подойдет Никифор – бла-го-роднейший старик, ну и…
Кстати, не зря стишок у Достоевского не дописан. История ведь еще не кончилась.
Источник
«Всякое дыхание…»
Когда мы ещё только начинали восстанавливать храм, то об устроении церковной территории никто всерьёз и не задумывался. Тогда это было чем-то наподобие волшебной мечты, а сейчас уже и газоны формируем, и цветники разбиваем. Хорошее это дело — выращивать цветы, красивое. Цветы — это всегда гармония и тишина, а ещё запахи. Остановится человек, постоит в окружении совершенных форм, помолчит в мыслях, прислушается, глядишь, через голоса цветов и Божий глас пробьётся.
Вдоль дорожки, ведущей от входной арки непосредственно к храму, наши труженицы высаживают множество самых разных цветов, цветущих всё лето, последовательно сменяющих друг друга. Для того, чтобы цветники поднять выше уровня самой дорожки, мы воткнули в землю вдоль неё полоски из оцинкованного металла. А с целью придать сооружению завершённый вид, наша староста догадалась взять старый резиновый шланг, нарезать его на куски, и, разрезав вдоль, надеть его сверху непосредственно на металл. Получилось дёшево и эстетично.
Полюбовались мы на эту красоту пару дней и стали уже привыкать, как вдруг однажды утром видим, что все куски шланга общей протяженностью метров этак около сорока грубо сорваны с мест и валяются разбросанными по всей дорожке.
Какой-то вандализм прямо! Стоим, размышляем, кому это надо? Взрослому человеку? Так у него и без нас дел полно. Пьяному? Так он бы ещё и цветы потоптал, а цветы нетронуты. Скорее всего, дети, только дети ночью у нас не ходят. Пороптали, да вновь воткнули шланги на место. Назавтра приходим — та же картина. Ну что за свинство! Кому это нужно?! И вот такого «свинства» несколько дней подряд.
Фото: Денис Гарипов
Наконец, звонит мне староста: «Батюшка, я почему-то уверена, хулиганят у нас вороны, что-то мне подсказывает, это они».
Я вспомнил, как года три назад мы наблюдали такую картинку. У нас на крыше церковного дома строители оставили лесенку и для того, чтобы она не слетела, привязали её верёвочкой. Так что вы думаете? Две галки за день эту верёвочку умудрились развязать и стащить. Ну ладно, верёвочку ещё можно приспособить для нужд в гнезде, но резиновые шланги? Зачем их с таким упорством каждое утро стаскивать с мест и бросать здесь же, на тротуаре. Нет, если они тебе нужны, так забирай. Ничего подобного, просто издевательство какое-то.
В эти же дни звонят мне рано утром и просят немедленно причастить умирающего. Садимся в машину и едем в храм. Ещё только светает. Прохожу в калитку и вижу: по дорожке разгуливает пара ворон, шланги пока на месте. Вороны меня тоже увидели, взлетели и опустились тут же, на ограду. Сидят и смотрят своими большими круглыми глазищами.
Вот они, думаю, две хулиганки. Или два хулигана, попробуй их разбери. Можно, конечно, закричать на них и даже бросить чем-нибудь. А толку? Отлетят на пару метров, сядут на тот же самый забор и прокаркают:
— Какой, однако, у нас батюшка неразумный, камнями кидается. Пожалуй, мы ему за это цветочки-то повыдёргиваем.
И в тот момент мне внезапно пришла в голову мысль поступить так, как это иногда описывают в житийной литературе. Я решил подобно Франциску Ассизскому попробовать убедить ворон больше не трогать наши скромные игрушки. Поскольку определить вороний пол мне не удалось, то и обратился я к ним старым проверенным нейтральным обращением:
— Товарищи вороны! Прошу вас, и не только от своего имени, но и от всего прихода, пожалуйста, не трогайте шланги. Ведь вы же старых людей заставляете всякий раз убирать за вами, а люди нервничают. Очень прошу вас, ради Христа, оставьте нас в покое. Спасибо за внимание, с которым вы меня выслушали.
Повернулся и пошел за Дарами. Иду и думаю: «Как хорошо, что никто этого не видел и не слышал, а то досталось бы мне за «товарищей ворон»».
Хотите, верьте, хотите – нет, но посягательства на наши шланги прекратились. Больше их никто не снимал и по дорожкам не разбрасывал. Наверно, вороны действительно понимают человеческое слово. Насколько они смышленее нас, и главное: им не нужно повторять дважды.
Вороны вообще загадочные птицы, можно сказать, таинственные. Мне рассказывали, что в одном местечке жил в своём доме человек, а фамилия у него звучала наподобие «Воронецкий». Так весь его дом и окружающие дом деревья были постоянным местом присутствия и гнездования ворон и галок. Когда человек с вороньей фамилией умер, его дом достался новому хозяину с другой фамилией. Птицы снялись с насиженных мест и улетели навсегда.
Когда у нас ещё не было ограды, местные жители, что держали коров, летом пригоняли их пастись к нам под храм. Служба заканчивается, выходит народ из церкви, и такое стадо «священных коров», со всеми приличествующими им отходами жизнедеятельности встречает прихожан здесь же под колокольней. Коровок отгоняют, а продукты жизнедеятельности остаются. Представьте, как это гармонично: в самом храме идёт литургия, стоят и молятся люди, а с другой стороны двери под сводами колокольни отдыхают коровы, лежат и жуют жвачку. Прямо как в раю.
Просил хозяев не гонять бурёнок к храму, а они недоумевают:
— Да как же не гонять, батюшка, мы ведь всегда в летнюю жару скотинку в храм загоняли, ей же охолодиться надо. Они вам не мешают, в сам храм-то не заходят, а под колокольней — ничего, пускай полежат.
Потом всё-таки героическими усилиями бригады «ух» нам удалось соорудить что-то напоминающее церковную ограду протяжённостью почти в пятьсот метров. Помню, что бригада по своему составу была замечательная: академик медицины, консул в одной из латиноамериканских стран, энтузиаст доброхот дядя Жора и прибившийся к нам бомж Эдик. Наверно, только в церкви может быть такое единение.
После того, как у нас появился какой-никакой забор, коровы больше не докучали, зато козы кое-где пролезали и объедали наши цветочки. И я вынужден был сделать вывод, что как интеллект, так и совесть у вечно жующей скотинки отсутствуют, и договориться с ней практически невозможно. Это вам не вороны.
Зато какие умницы кошки . Сердобольные граждане постоянно подбрасывают к нам котят, а мы в память о каких-то значимых событиях из жизни нашего прихода награждаем их кличками. Как-то приезжали к нам в гости австралийцы, отцы из русской Зарубежной Церкви. В честь их посещения мы и назвали очередного котёнка «Сиднеем», потом он, правда, превратился в «Сида». Таким образом, факт посещения дорогих гостей закрепился в прозвище деревенского аборигена.
А последнее время нас часто навещает одна такая славненькая пушистая кошечка, имени я её не знаю, но это не мешает ей подъедаться у нас при трапезной. В благодарность за приют кошечка решила быть нам чем-нибудь полезной. Но поскольку кошки при столовых мышей не ловят, то в благодарность она решила сопровождать меня в погребальных процессиях. Вот уже почти полгода траурная процессия, выходящая из ворот нашего храма, выглядит так. Сперва несут крест, потом крышку гроба, затем вышагивает кот с высоко поднятым плюмажем хвоста, и уж только за котом идёт батюшка. Я уже настолько привык к этой кошачьей странности, что, выходя из храма, начинаю невольно искать глазами нашего кошака, чтобы соблюсти ритуал. Однажды не выдержал и говорю ей:
— Кошка, откуда в тебе столько гордыни? Почему ты всё время идёшь передо мной? Следуй за провожающими, будь скромнее.
А она смотрит на меня своими преданными глазами-плошками и отвечает:
Точь-в-точь как ещё в советские годы в каком-нибудь литовском магазинчике продавщица улыбается тебе вежливо-вежливо и на все твои попытки что-то купить отвечает:
— Несу пранту, — не понимаю, мол, тебя, дорогой товарищ оккупант. Так и кошка:
— Не понимаю я тебя, дорогой товарищ поп. — А в следующий раз снова вышагивает впереди с гордо устремлённым к небу хвостом.
Поскольку наши кошки мышей ловить не хотят, то заниматься этим приходится нашей старосте, которая достигла в этом деле значительного опыта и сноровки. Но это с мышами, а с крысами, хоть плачь. Крыс у нас в округе много, поскольку весь храм окружён коровниками. Так что осенью не зевай и не оставляй без присмотра открытыми храм или церковный дом, обязательно забегут. В храм, правда, крысы не идут, нечего им там делать, а вот в трапезную спешат, и с превеликим удовольствием.
Крысы — животные очень хозяйственные. Если какая в дом заберётся, то сразу наводит в нём надлежащий, с её точки зрения, порядок. Находит укромное место и устраивает в нём склад, куда стаскивает всё съестное. Распознать наличие в доме крысы можно не только по шорохам под полом и в стенах. Начинают пропадать продукты. Привез я на кухню сетку картошки, поставил на пол в углу, а утром кормилица наша, тётя Шура негодует:
— Батюшка, ты же обещал нормальной картошки привезти, а привёз «на тебе, Боже, что мне негоже». Заглядываю на кухню и вижу, действительно, в сетке не картошка, а не пойми что, и самое главное, этого «не пойми что» совсем мало. Картошку обнаружили только через месяц, она была отсортирована и тщательно уложена в днище дивана, что стоит у нас в трапезной, там же лежали в порядке пропадания сухари, пряники, и даже почти полная упаковка печенья «Юбилейное».
Крысы готовы жить с хозяином в дружеском паритетном общении и взаимопонимании. Один раз я причащал старенькую бабушку. Пока готовил в комнате всё для причастия, слышу на кухне такое характерное: «шлёп»!
— Селёдка, — заволновалась старушка, и на кухню. Я за ней, гляжу суёт она руку под батарею и кричит, громко так:
Возня, сопение — и у бабушки в руке большая селёдка с растерзанным хвостом. Бабушка довольна:
— Успела. Знаешь, какая она у меня бедовая, всё тащит. Глаз да глаз за ней нужен.
— За кем это, бабань? — интересуюсь.
— Да за квартиранткой моей, крыса у меня живёт, здоровущая.
Потом взяла ножик, отрезала от селёдки большую часть хвоста и бросила его под батарею:
— Ладно, на посолись, я ведь не жадная. Делиться надо, слышишь, квартирантка, а ты всё только для себя, понимаешь.
Я почувствовал отвращение.
— Мать, давай я в ЖКО зайду, попрошу крысу твою эту извести.
— Спаси тебя Бог, батюшка. Только Лариску мою травить не надо. Мы ведь с ней дружим, порой даже в одной постели спим. Она зимой ко мне в ноги заберётся, свернётся клубочком и спит. Я ведь человек одинокий, ни детям, ни внукам, никому не нужна, хорошо хоть крыса прибилась.
Крыса, животное внешне гадкое, но очень разумное, и вот что мне иногда на ум приходит: может, это не бабка крысу приютила, а крыса бабку пожалела.
А однажды я был свидетелем такого интересного случая. Это было задолго до моего рукоположения. Отслужили воскресную службу, и отец Нифонт, тогдашний наш второй священник, предлагает мне:
— Пошли со мной. В одной квартире помолиться надо. Хозяйка жалуется, что житья уже не стало от тараканов. Вот мы с тобой мученику Трифону молебен послужим, а потом святой водичкой дом покропим, они и уйдут.
— Тараканы боятся чистоплотных хозяек, батюшка, — отвечаю.
— Бывает, что и не всегда, — глубокомысленно заметил отец игумен, и мы проследовали по предложенному нам адресу.
Заходим в квартиру, в доме опрятно, но присутствие тараканов заметно и невооружённым глазом. Хозяйка пригласила подругу, и видно, что той вся эта затея с молитвой от тараканов забавна. Порой она и вовсе начинает смеяться, даже не таясь. Батюшка помолился своим трескучим голоском, а, уже уходя, и говорит смешливой подруге:
— Так ты, говоришь, в соседнем доме живёшь? Вот гляди, ночью здешние тараканы уйдут из этого дома, а придут к тебе. Так что встречай гостей.
Женщина прыснула в кулак, неудобно ей было откровенно смеяться в лицо священнику. И, на самом деле, всё это наше действо со стороны выглядело достаточно комично.
Только тараканы, действительно, ушли ночью из этого дома, а конкретно, из этой квартиры на четвёртом этаже. И, вот не знаю, те ли это тараканы или из тех, что проживали в соседней пятиэтажке, но к смешливой женщине в ту же ночь нагрянула, как в том анекдоте, такая толпа вредных насекомых, что ей бедняжке было уже не до смеха.
Но самый удивительный пример дружбы и взаимопонимания, завязавшихся между человеком и птицами, а именно с голубями, произошёл у нас в посёлке всего несколько лет назад.
Фото Виталия Мочалова
В одном из пятиэтажных домов на первом этаже жил пожилой и очень больной человек. Друзья звали его Бобом. Боб страдал запущенной формой диабета, и непонятно было, как он вообще дожил до своего возраста. Человек большого роста и большого сердца. Ему было очень трудно ходить, передвигаться он мог только с палочкой, тяжело опираясь на неё. Не знаю, в каких случаях, но иногда страдающим этой болезнью разрешают выпивать немного водки. Бобу это снадобье помогало, а поскольку тело у него было большое, то и количество водки, что он выпивал, тоже было немалым, но без неё он уже жить не мог.
Любил старик сидеть у открытого окна или зимой на лоджии и смотреть на играющих в детском городке малышей. Однажды у него перед окном приземлилась большая стая голубей и не улетала до тех пор, пока Боб не раскрошил им батон белого хлеба. Голуби стали появляться каждый день к одному и тому же часу, а Боб уже ждал их с батоном. Его жене это, наконец, надоело, и однажды она в сердцах высказала мужу:
— Если хочешь кормить своих дармоедов, то сам и ходи им за хлебом.
И Боб покорно ходил в ближайший магазин. Каждый день, невзирая на погоду, в одно и то же время он выбирался из дома и шёл, если это, конечно, можно было назвать ходьбой. Перед его выходом у подъезда уже собиралась толпа друзей-нахлебников, и вся процессия выдвигалась к магазину. Впереди, еле переступая, шёл Боб, а за ним шло всё стадо голубей, именно стадо, а не стая. Стая, та летает, а стадо исключительно ходит. Они вместе с человеком шли в магазин, затем возвращались под окно и терпеливо ждали кормильца. А тот, добравшись до окна, кормил птиц и был счастлив.
После того, как Боб окончательно слёг, голуби продолжали прилетать к нему и садились, кто на оконный отлив, кто на форточку, словно подбадривали умирающего своим воркованием. Когда Боб умер, а это был уже август, и тело усопшего выносили из дома, птицы прилетели к подъезду и расселись кругом на выступах и козырьках. Потом они перебежками и перелётами следовали за ним до самого кладбища. Люди говорят, что видели стаю голубей, кружащих над могилкой Боба на девятый день после его кончины. Не знаю, правда это или нет.
Только в тот же год мы видели, как осенью над нами в тёплые края пролетела стая, по всей видимости, журавлей. Погода уже портилась, на улице было неуютно, моросил мелкий дождик. Стая больших красивых птиц летела точно над нашим храмом, ну и, конечно же, кладбищем. Вдруг птицы стали кричать что-то на своём птичьем языке. Они внезапно свернули с высоты привычного маршрута и спустились к храму. А потом вся стая, как единое целое, сделала три круга у нас над большим куполом, и, непрерывно курлыкая, начала уходить в небо. Это было так завораживающе прекрасно.
И я почему-то подумал про Боба. Ведь из-за своего постоянного «лечения» он стеснялся пригласить к себе священника. Так и ушёл, не причастившись. Но может, за его милосердие к братьям нашим меньшим Господь позволил этой настрадавшейся душе воспарить в небо вместе с большими красивыми птицами? Кто знает. А что, если это голуби за него похлопотали?

Источник


