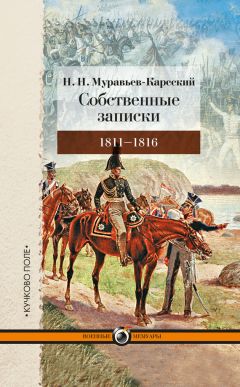Николай Муравьев-Карсский — Собственные записки. 1811–1816
Описание книги «Собственные записки. 1811–1816»
Описание и краткое содержание «Собственные записки. 1811–1816» читать бесплатно онлайн.
«Собственные записки» русского военачальника Николая Николаевича Муравьева (1794–1866) – уникальный исторический источник по объему и широте описанных событий. В настоящем издании публикуется их первая часть, посвященная тому времени, когда автор офицером Свиты Его Величества по квартирмейстерской части участвовал в основных сражениях Отечественной войны 1812 года и Заграничного похода русской армии 1813–1814 годов.
По полноте нарисованных картин войны, по богатству сведений о военно-походной жизни русской армии, по своей безукоризненной правдивости и литературной завершенности записки Н. Н. Муравьева являются одним из самых заметных явлений в русской мемуарной литературе, посвященной эпохе 1812 года.
Собственные записки. 1811–1816
Публикуется по изданию: Русский архив. 1885. Вып. 9. С. 5–84; Вып. 10. С. 225–262; Вып. 11. С. 337–408; Вып. 12. С. 451–497; 1886. Вып. 1. С. 7–54; Вып. 2. С. 69–146
© Валькович А. М., вступ. ст., 2015
© ООО «Кучково поле», 2015
Среди воспоминаний русских офицеров о грандиозной эпохе Отечественной войны 1812 года «Собственные записки» Н. Н. Муравьева-Карсского (1794–1866), выдающегося военачальника, в годы Крымской войны прославившегося взятием турецкой крепости Карс, занимают особое место. В отличие от многих других произведений мемуарного жанра, посвященных тому героическому времени, эти воспоминания написаны с редкой правдивостью и впечатляющей подробностью. В них содержатся масштабные и яркие картины незабываемых кампаний русской армии против Наполеона в 1812–1814 годах, представленные с позиции просвещенного офицера, с честью выдержавшего все испытания той военной поры. Несомненным достоинством «Собственных записок» Н. Н. Муравьева-Карсского является и то обстоятельство, что созданы они вскоре после описываемых событий, пока в памяти молодого офицера еще свежи были впечатления от всего им испытанного и увиденного в те годы.
Николай Николаевич Муравьев родился в Петербурге в семье морского лейтенанта, отважно сражавшегося в войне со шведами. Его отец Николай Николаевич Муравьев (1768–1840) получил отличное домашнее образование и завершил курс наук в Страсбургском университете. По заключении Верельского мира он женился на дочери инженер-генерала Александре Михайловне Мордвиновой (1770–1809), чья внешность, по отзыву сына, «соответствовала ее прелестным качествам души». Счастливые супруги, как и большинство дворян того времени, были многодетны: у них были пять сыновей и одна дочь. Это позволяло родственникам большое и дружное семейство Муравьевых шутливо называть «Муравейником». Николай был вторым ребенком в семье. Родители, несмотря на скромное состояние, постарались дать своим детям прекрасное домашнее образование. Николай проявил большие способности в постижении «математических наук», в совершенстве знал, помимо необходимого в свете французского, также немецкий и английский языки. Его младший брат Михаил, будучи студентом Московского университета, в 1810 году основал «Московское общество математиков» в целях распространения математических знаний посредством бесплатного преподавания и перевода лучших иностранных математических трудов. Муравьев-старший был избран президентом и принял самое живое участие в работе общества, где состояли и его сыновья.
В следующем году Николай, успешно выдержав в феврале экзамен, поступил на военную службу колонновожатым Свиты Его Императорского Величества по квартирмейстерской части, где призвана была служить элита русской армии, и куда поступили на службу и его братья: Александр и Михаил. Николаю шел семнадцатый год. Отличные знания его в математике обратили на себя внимание князя П. М. Волконского, управляющего квартирмейстерской частью. Юный колонновожатый преподает геометрию в математических классах при чертежной канцелярии квартирмейстерской части, затем его назначают смотрителем вновь открывшегося в Петербурге училища колонновожатых, и одновременно он заведует библиотекой училища.
13/25 апреля 1811 года Николай Муравьев получил производство в первый офицерский чин. В молодые лета он терпел «много нужды» и был вынужден жить на небольшое офицерской жалованье. С юности он увлекался идеями Ж. Ж. Руссо и вместе с братьями и некоторыми сослуживцами был основателем преддекабристского общества «Юношеское собрание» или «Чока». Молодые люди намеревались отправиться на остров Сахалин, где собирались основать коммунистическую республику. Однако надвигавшаяся военная гроза заставила их отказаться от этих утопических мечтаний. В открывшейся кампании 1812 года прапорщик Муравьев, получивший для отличия от братьев № 2, состоял при гвардейском корпусе великого князя Константина Павловича, а после отъезда цесаревича из армии поступил в Главную квартиру 1-й Западной армии под начальство генерал-квартирмейстера К. Ф. Толя. Вместе с братьями он участвовал в сражении при Бородино, где, согласно наградному списку, Муравьевы, «находясь в сражении, посыланы были в опасные места, проводили войска по назначению с расторопностию и неустрашимостию».[1] В награду Николай получил свой первый боевой орден – Св. Анны 3-й степени. После оставления Москвы он состоял «в авангардной кавалерии, с коей был в сражениях: под Красной Пахрой, под Чириковым, и с генерал-адъютантом Корфом под Гремячевым; потом командирован в авангард под команду генерала от инфантерии графа Милорадовича и был в сражениях: октября 6 под Тарутиным, 22 под Вязьмой и при преследовании неприятельских войск до Вильны…»[2] В конце похода свитский офицер перемогался от болезни, но продолжал нести свою нелегкую службу. Описывая то время, он вспоминал: «Служба наша не была видная, но трудовая; ибо не проходило почти ни одной ночи, в которую бы нас куда-нибудь не послали. Мы обносились платьем и обувью и не имели достаточно денег, чтобы заново обшиться. Завелись вши. Лошади наши истощали от беспрерывной езды и от недостатка в корме. Михайла начал слабеть в силах и здоровье, но удержался до Бородинского сражения, где он, как сам говорил мне, «к счастию, был ранен, не будучи более в состоянии выдержать усталости и нужды». У меня снова открылась цинготная болезнь, но не на деснах, а на ногах. Ноги мои зудели, и я их расчесывал, отчего показались язвы, с коими я, однако, отслужил всю кампанию до обратного занятия нами в конце зимы Вильны, где, не будучи почти в силах стоять на ногах, слег».[3] В армию Н. Н. Муравьев вернулся в апреле 1813 года и принял участие в главных сражениях кампаний в Германии и Франции. Боевые отличия принесли ему дважды повышения в чине и новые ордена, а в августе 1814 года он в числе лучших свитских офицеров был переведен поручиком во вновь учрежденный Гвардейский генеральный штаб. В 1816 году Н. Н. Муравьев в чине штабс-капитана состоял при посольстве генерала А. П. Ермолова в Персии, а по успешному завершению дипломатической миссии остался продолжать службу на Кавказе. Здесь мы прерываем наш рассказ о жизни и деятельности автора мемуаров, поскольку продолжение последует во втором томе публикаций его дневников и воспоминаний за последующее время.
В послевоенные годы Н. Н. Муравьев начал писать свои воспоминания, составившие шесть частей и охватывающие период его военной жизни с 1811 по 1816 год, где главное место занимали события героической и драматической эпохи 1812 года. Последнюю часть, написанную в Тифлисе в декабре 1818 года, он заключил следующими знаменательными словами: «Тружусь и стараюсь усовершенствовать себя; вижу свои недостатки, испытываю себя. Таким образом провел я уже более двух лет».[4] Над этими воспоминаниями работал он и в последние годы своей жизни, добавляя примечания и тщательно вымарывая некоторые фрагменты из текста «Записок», а иногда удаляя и целые листы, наверное, отличающиеся излишней смелостью суждений, поскольку автор был человеком независимых убеждений, полностью разделяющим передовые взгляды своего века. Н. Н. Муравьев представил запоминающуюся правдивую картину событий эпохи 1812 года. Его мемуары написаны живым литературным слогом и очень занимательны. Здесь истории трагические нередко соседствуют с комическими. Немало в них и сатиры. По богатству сведений о военно-походном быте русской армии, по впечатляющим описаниям сражений, по ярким характеристикам генералов и офицеров, с которыми ему довелось служить, «Записки» Н. Н. Муравьева по праву занимают одно из главных мест в русской мемуарной литературе, посвященной эпохе 1812 года.
После смерти генерала его мемуары были представлены в редакцию журнала «Русский архив» одной из дочерей Н. Н. Муравьева – Александрой Николаевной Соколовой. Их опубликовали по оригинальной рукописи с цензурными купюрами под названием «Записки Николая Николаевича Муравьева» в нескольких номерах журнала в 1885–1886 годах.[5] Вскоре после публикации виднейший российский историк А. Н. Пыпин оценил эти воспоминания как «наиболее любопытные свидетельства, какие оставили современники об этой великой эпохе».[6]
Обнародованный более 100 лет назад этот уникальный источник впоследствии был почти забыт. Предпринимаемое настоящее издание позволяет вернуть нашим современникам возможность познакомиться с интереснейшими мемуарами и существенно пополнить наше представление о том столь далеком, но по-прежнему притягательном периоде русской истории, названным А. С. Пушкиным «временем славы и восторга». Текст воспоминаний приведен в современной орфографии с сохранением своеобразия русского языка первой четверти XIX века, исправлены опечатки первого издания и в ряде случаев восстановлены пропущенные слова и предложения. В именном указателе содержатся биографические данные об упоминаемых в мемуарах лицах, число которых превышает шестьсот человек. Сведения о гвардейских и армейских офицерах основаны на материалах полковых историй и архивных дел.
Источник
Муравьев карский собственные записки
Н. Н. Муравьев (1793—1867), видный военный деятель. Юношей он участвовал в Отечественной войне и в походе на Париж, затем провел несколько десятков лет на разных должностях на Кавказе. Впервые он прибыл туда в 1816 году в составе чрезвычайного посольства А. П. Ермолова, которое было снаряжено в Персию вскоре после заключения мира. В списке чиновников, находившихся в посольстве, он отмечен: «гвардии генерального штаба, штабс-капитан Николай Николаевич Муравьев». В 1820 году он получил чин полковника; 15 марта 1828 года — чин генерал-майора и тогда же намечался на должность начальника штаба кавказского корпуса при Паскевиче. Впоследствии был генерал-ад’ютант, а в 1854—1856 гг. состоял наместником Кавказа; за взятие крепости Карс получил титул «Карский». О Н. Н. см. статьи: А. П. Берже. Н. Н Муравьев. — «Русская Старина» 1873 г., т. VIII, стр. 599—630; М. П. Щербинина Кн. М. С. Воронцов и Н. Н. Муравьев. — «Русск. Старина» 1874 г., №9, стр.99—114; Д. Е. Остен-Сакена. Н. Н. Муравьев в 1828—1856 г., 8 ibid., № 11, стр. 535—543.
Познакомившись с Грибоедовым в 1818 году, он встречался с поэтом на протяжении десяти лет. Их совместная служба на Кавказе, их занятия восточными языками дали возможность Муравьеву ближе познакомиться с Грибоедовым и запечатлеть в своем дневнике ценнейшие сведения о великом писателе. Не питая особой симпатии к Грибоедову, Муравьев, однако, высоко ценил его ум и познания; его воспоминания являются единственным в своем роде документом о жизни Грибоедова на Кавказе.
Записки Муравьева печатались в «Русском Архиве» с 1885 по 1894 год, куда они были доставлены его дочерью — А. Н. Соколовой. Отсюда и извлекаем страницы, связанные с именем Грибоедова. По годам эти воспоминания распределены в «Русском Архиве» следующим образом: страницы о Грибоедове в 1818 году извлечены из «Русского Архива» 1886 г., № 11, стр. 331—335, 339—340; о 1819 г. — «Р. А.» 1886 г., № 12, стр. 433—434; о 1822 г. — «Р. А.» 1888 г., № 5, стр. 103—108, 112, 115—116, 117, 119—121; о 1826 г. — «Р. А.» 1889 г., № 4, стр. 594—595; о 1827 г. — «Р. А.» 1889 г., № 9, стр. 60—62, 67, 76—77, 87—89; № 11, стр. 275,
289—290, 315—316; о 1828 г. и о смерти Грибоедова — «Р. А.» 1893 г., № 11, стр. 362—364 и 1894 г., № 1, стр. 39—50.
Следует указать, что, пересматривая свои записки в конце своей жизни в 1866 году, Муравьев не только многое в них зачеркнул, так что прочитать невозможно, но некоторые страницы целиком уничтожил. Можно предположить, что при этой «редактуре» пострадали и страницы о Грибоедове.
7-го [октября]. Якубович рассказал мне в подробности поединок Шереметева в Петербурге. Шереметев был убит Завадовским, а Якубовичу тогда должно было стреляться с Грибоедовым за то же дело. У них были пистолеты в руках; но, увидя смерть Шереметева, Завадовский и Грибоедов отказались стреляться. Якубович с досады выстрелил по Завадовскому и прострелил ему шляпу1. За сие он был сослан в Грузию2. Теперь едет через Грузию в Персию Грибоедов. Якубович хочет с ним стреляться и поверил сие мне и Унгерну. Он не зовет нас в секунданты, зная, чему они подвергаются со стороны правительства, но желает, чтобы мы шагах в двадцати находились и помогли бы раненому. Я советовался на сей счет с Унгерном, и мы не находим в Тифлисе места удобного для сего. Грибоедов едет сюда потому, что он находится при Мазаровиче, который назначен поверенным
в делах при Персидском дворе. Мазаровичу положено при сем месте 3.000 червонцев жалованья, кроме экстраординарной суммы1.
8-го. После обеда ходил в сад, дабы найти место удобное для поединка Якубовича. Вечер провел у меня Якубович. Его образ мыслей насчет многих предметов мне очень понравился.
21-го. Якубович об’явил нам, что Грибоедов, с которым он должен стреляться, приехал, что он с ним переговорил и нашел его согласным кончить начатое дело. Якубович просил меня быть секундантом. Я не должен был отказаться, и мы условились, каким образом сие сделать. Положили стреляться им у Талызина 2 на квартире.
22-го. Я обедал у француза3 и видел Грибоедова. Человек весьма умный и начитанный, но он мне показался слишком занят собой. Секундант его маленький человек; не знаю, кто он такой. С ним вместе приехал сюда один капитан Быков, л.-г. Павловского
полка, для выбора людей в гвардию. Ввечеру Грибоедов с секундантом и Якубовичем пришли ко мне, дабы устроить поединок как должно. Грибоедова секундант предлагает им сперва мириться, говоря, что первый долг секундантов состоит в том, чтобы помирить их. Я отвечал ему, что я в сие дело не мешаюсь, что меня призвали тогда, как уже положено было драться, следственно Якубович сам знает, обижена ли его честь. И мы начали уславливаться, но тот вывел меня в другую комнату и просил меня опять стараться о примирении их, говоря, что он познакомился в Москве с матерью Грибоедова, которая просила его стараться сколько возможно остановить сей поединок, который она предвидела, и следственно, что долг заставлял его сие делать. Между тем Якубович в другой комнате начал с Грибоедовым спорить довольно громко. Я рознял их и, выведя Якубовича, сделал ему предложение о примирении; но он и слышать не хотел. Грибоедов вышел к нам и сказал Якубовичу, что он сам его никогда не обижал. Якубович на то согласился. — А я так обижен вами. «Почему же вы не хотите оставить сего дела?» — Я обещался честным словом покойному Шереметеву при смерти его, что отомщу за него на вас и на Завадовском. — «Вы поносили меня везде». — Поносил и должен был сие сделать до этих пор; но теперь я вижу, что вы поступили как благородный человек; я уважаю ваш поступок; но не менее того должен кончить начатое дело и сдержать слово свое, покойнику данное. — «Если так, так гг. секунданты пущай решат дело». Я предлагал драться у Якубовича на квартире, с шестью шагами между барьерами и с одним шагом назад для каждого; но секундант Грибоедова на то не согласился, говоря, что Якубович, может, приметался уже стрелять в своей комнате.
Я согласился сделать все дело в поле; но для того надобно было достать бричку, лошадей, уговорить лекаря. Амбургер1, секундант Грибоедова, взялся достать бричку у братьев Мазаровичей и нанять лошадей. Он побежал к ним, а я к Миллеру2,
который сперва подумал, что его в секунданты звали, смешался сперва и не хотел согласиться; но когда он узнал, что его просили только помочь раненому, он тотчас согласился и обещал мне на другое утро дожидаться меня. Амбургер со своей стороны достал бричку. Все опять у меня собрались, отужинали, были веселы, дружны, разговаривали, смеялись, так что ничего на поединок похожего не было. Желая облегчить поединок (как то был мой долг), я задержал Унгерна и Якубовича у себя, после того, как все ушли, и предлагал Якубовичу кончить все при двух выстрелах, несмотря на то, будет ли кто ранен, и взять восемь шагов между барьерами. Но он никак не согласился на мое предложение, и я принужден был остаться при прежних правилах.
23-го. Я встал рано и поехал за селение Куки отыскивать удобного места для поединка. Я нашел Татарскую могилу, мимо которой шла дорога в Кахетию; у сей дороги был овраг, в котором можно было хорошо скрыться. Тут я назначил быть поединку. Я воротился к Грибоедову в трактир, где он остановился, сказал Амбургеру, чтобы они не выезжали прежде моего возвращения к ним, вымерил с ним количество пороху, которое должно было положить в пистолеты и пошел к Якубовичу, а от него к Миллеру; но Миллера я не застал дома. Я побежал в военный госпиталь, нашел его там и сказал ему, что ему уже отправляться пора. Мы с ним условились, что он прежде всех поедет в Куки в военный госпиталь, что он там дождется пока я проеду и поедет в лагерь к колонистам, откуда он будет смотреть к монументу, и как скоро я покажусь верхом из оврага, он поскачет к нам. Якубовичу я сказал, чтобы он отправился пешком к месту, спрятался бы за монумент и не выходил бы оттуда, пока я его не позову. Амбургеру с Грибоедовым я сказал, чтобы они в бричке ехали и взяли бы с собой свои пистолеты. Я сам поехал верхом, увидел Миллера, поставил бричку за горой и повел Грибоедова с секундантом. Я полагал, что Якубович, который видел куда бричка поехала, пойдет за ней; но он пошел к монументу и спрятался за оный. Я забыл, что ему велел туда итти, и когда Грибоедов спросил у меня, где он, я поскакал из оврага и, вспомня, что он за памятником, позвал его; но Миллер принял сие за знак, подумал, что ему выезжать пора, и тронулся, но он не приметил оврага, в который я опять в’ехал, и проскакал в горы.
Мы назначили барьеры, зарядили пистолеты и, поставя ратоборцев, удалились на несколько шагов. Они были без сюртуков. Якубович тотчас подвинулся к своему барьеру смелым шагом и дожидался выстрела Грибоедова. Грибоедов подвинулся на два шага; они простояли одну минуту в сем положении. Наконец, Якубович, вышедши из терпения, выстрелил. Он метил в ногу, потому что не хотел убить Грибоедова; но пуля попала ему в левую кисть руки1. Грибоедов приподнял окровавленную руку свою, показал ее нам и навел пистолет на Якубовича. Он имел все право подвинуться к барьеру; но, приметя, что Якубович метил ему в ногу, он не захотел воспользоваться предстоящим ему преимуществом: он не подвинулся и выстрелил. Пуля пролетела у Якубовича под самым затылком и ударилась в землю; она так близко пролетела, что Якубович полагал себя раненым: он схватился за затылок, посмотрел свою руку, однако, крови не было2. Грибоедов после сказал нам, что он целился Якубовичу в голову и хотел убить его, но что это не было первое его намерение, когда он на место стал. Когда все кончилось, мы подбежали к раненому, который сказал: О sort injuste3. Он не жаловался и не показывал вида, что он страдает. Я поскакал за Миллером, его в колонии не было; я поехал в горы, увидел его вдали и окликнул; он приехал к нам, перевязал слегка рану и уехал. Раненого положили в бричку, и все отправились ко мне. Тот день Грибоедов провел у меня; рана его не опасна была, и Миллер дал нам надежду, что он в короткое время выздоровеет. Дабы скрыть поединок, мы условились сказать, что мы были на охоте, что Грибоедов с лошади свалился и что лошадь наступила ему ногой на руку. Якубович теперь бывает вместе с Грибоедовым, и по обращению их друг с другом никто бы не подумал, что они стрелялись. Я думаю, что еще никогда не было подобного поединка: совершенное хладнокровие во всех
четырех нас, ни одного неприятного слова между Якубовичем и Грибоедовым; напротив того, до самой той минуты, как стали к барьеру, они разговаривали между собою, и после того, когда секунданты их побежали за лекарем, Грибоедов лежал на руках у Якубовича. В самое время поединка я страдал за Якубовича, но любовался его осанкою и смелостью: вид его был мужествен, велик, особливо в ту минуту, как он после своего выстрела ожидал верной смерти, сложа руки.
25-го. Грибоедов перешел поутру на другую квартиру. Слух о поединке разнесся и дошел до Наумова1. Никого больше в том нельзя подозревать, кроме капитана Быкова, который стоял вместе с Грибоедовым; но Наумов ничего не знает наверное. Его мучит любопытство: ему бы хотелось, чтобы мы все к нему пришли, повинились бы в своем поступке; тогда он принял бы на себя вид покровителя и, пожуривши нас за молодость, взялся бы поправить все дело, которое не требует поправления. Ему весьма обидно показалось, что мы сего не сделали; он напал на бедного Талызина, не смея на другого напасть, наговорил ему неприятностей и обвинял его в обмане. «Ты должен был все знать, потому что ты вместе с Якубовичем жил; для чего ты мне ничего не сказал и не говоришь?» Бедный Талызин клялся ему, что он ничего не знает. Тогда Наумов позвал к себе Якубовича, хотел из него все выведать самым глупым образом, но ошибся. Он стал уверять Якубовича, что он все знает. «Если вы все знаете», — отвечал ему Якубович, — «так зачем же вы спрашиваете меня? А я вам говорю, что поединка не было и что слухи эти пустые». Весьма приметно, что Наумов еще недавно имел такую власть; он хочет ее выказать; его любопытство мучает, и он хотел бы быть в состоянии рассказывать всем на ухо обстоятельства сего поединка, но ему не удалось и не удастся. Вечер мы провели у Грибоедова. Наумов посылал меня к себе просить; я пошел к нему, но не застал его дома.
26-го. Наумов прислал сказать Якубовичу, что полковник Наумов приказывает ему выехать из города, а что Сергей Александрович позволяет ему до вечера 27-го числа в Тифлисе остаться. Наумов сим подтверждает то, что я об нем выше написал.
27-го. Ввечеру Якубович уехал на Карагач в полк. Про рану Грибоедова распущено множество слухов. Унгерн слышал вчера, что пуля ударила его в ладонь и вылетела в локоть.
25-го [декабря]. Я пошел поутру к генералу Вельяминову1 и выпросил у него позволение для Рененкампфа и Воейкова2 ехать вперед навстречу Алексею Петровичу [Ермолову]. Я пошел к обедне; во время оной пришло известие, что Алексей Петрович близко от Тифлиса. Алексей Александрович Вельяминов3 приехал в два часа пополудни, а с ним Верховский, Самойлов, Лищенко, Рыхлевский4, Петр Николаевич5 ; а Алексей Петрович остался на Артисховском посту, дабы в’ехать в город ночью, чтобы избавиться от встреч. Он приехал в 7-м часу, заперся с Иваном Александровичем и занимался с ним часа полтора, после чего он вышел к нам. Нас было человек 10 из домашних его; он принял нас очень ласково, всех поодиночке, обнял и восхитил нас. Вечер я провел у главнокомандующего и сидел у Петра Николаевича до 2-го часа ночи. Он мне рассказывал разные происшествия по службе. Между прочим он сказал мне, что Алексей Петрович очень сердится на Якубовича за случившийся поединок и советовал мне через Грибоедова попросить Мазаровича, чтобы он об’яснил дело генералу и устроил бы оное так, чтобы он не сердился и оставил бы оное.
28-го. Я обедал у Ивана Александровича Вельяминова, который после обеда сказал мне, что полицеймейстер6 подавал ему на меня просьбу через Ховена7, но что он возвратил ее. Я благодарил его за сие. Впрочем, сказал я ему, я не боюсь ябед полицеймейстера,
потому что я прав; но мне весьма прискорбно было бы связаться с человеком такого рода.
Ввечеру я пошел к Алексею Петровичу; но он не показывался, и я просидел до 12-го часа у Петра Николаевича с Самойловым и Розеном1. У нас зашел большой спор об Каховском2; Петр Николаевич защищал его.
29-го. Ввечеру зашел к Стабушу, который стоит с Шишковым, племянником Александра Семеновича Шишкова, который переведен недавно в Кабардинский пехотный полк.
31-го. Я обедал у Алексея Петровича, вечер провел до полуночи у Грибоедова и встретил у него новый год. Ужин был прекрасный, и все несколько подпили. Краузе3 показывал разные штуки.
1-го января. Я провел вечер на бале у Алексея Петровича. Бал был довольно пышный. Всего мне больше на оном понравились грузинки, которые удивили меня несказанною красотою своей.
2-го. я обедал у Алексея Петровича и после обеда сидел у него до шести часов вечера в кабинете. Мы разговаривали очень долго о новых колонистах, которые сюда прибыли, о ереси их и о беспечности сих людей, о преимуществах, которых они требуют, и каким образом государь принял их. Алексей Петрович был очень любезен и ласков; он дал мне новые книги насчет Армении, привезенные ему из Парижа.
4-го я занимался все время сдачею дел Верховскому4.
11-го я был у Алексея Петровича, который говорил очень долго о разделении Польши с таким красноречием и с такими познаниями, что мы все удивлялись и заслушались его. Грибоедов проделывает с ним все те же самые штуки, которые он со мной делал, и надувает Алексея Петровича, который верно полагает
[в нем] пространные и глубокие сведения. Грибоедов умен и умеет так осторожно действовать, что все речи его двусмысленны, и он тогда только дает утвердительное мнение свое, когда Алексей Петрович свое скажет, так что никогда ему не противоречит и повторяет слова Алексея Петровича: все думают, что он прежде тот предмет также хорошо знал. Я уже был надут им и видел ход его действий.
16-го. Мне кажется, Грибоедов придирается ко мне, и что у нас не обойдется ладно. Вчера обедал я в трактире, и Грибоедов тоже. Пришел туда тот самый толстый Степанов, с которым я раз виделся на его квартире и который отказался от своих слов и просил извинения. Грибоедов не знал его. Увидя его, он спросил меня, та ли это особа, про которую прежде говорено было и которой я побоялся. «Как побоялся», — сказал я, — «кого я буду бояться?» — Да его наружность страшна. — «Она может быть страшна для вас, но совсем не для меня». Меня очень рассердило сие маленькое происшествие. Я дождался, пока Степанов ушел, а потом, подозвав к себе Амбургера, спросил у него громко при всех, слышал ли он суждение Грибоедова, который находит наружность Степанова грозною? Грибоедов несколько потерялся и не умел иначе поправиться, как сказав, что он ее грозною потому находит, что Степанов громаден. Тем и кончилось. Грибоедов почувствовал свою ошибку и все вертелся около меня.
18-го. Вчера я получил благодарность в приказах от Алексея Петровича за искусное расположение войск на границе Персии для удержания кочующих народов и доставление нужных замечаний.
22-го я обедал у Алексея Петровича. Грибоедов отличался глупейшею лестью и враками. Я не понимаю, как Алексей Петрович может так долго ошибаться в нем. Он, кажется, к нему еще очень хорошо расположен, и мне кажется сие за счастье, что Грибоедов не остается в Тифлисе, а уезжает с Мазаровичем.
28-го. Уехал отсюда с Мазаровичем в Персию к великому удовольствию всех Грибоедов, который умел заслужить всеобщую нелюбовь. Мне кажется, однако же, что Алексей Петрович не ошибся на его счет. Он препоручил Грибоедову сделать описание случившемуся здесь землетрясению для помещения оного в ведомости. Грибоедов написал ужасную штуку: Куринские льды с ревом поколебались, треснули и стремились к пучине; тут был и гром, и треск, и стук, и страх, и разбежавшиеся жители, и
опустелый город; землетрясение пять минут продолжалось и пр., и пр., и все написано так лживо и так нескладно, что было больше похоже на силлогизм человеческого преследования1. Я узнал, что Алексей Петрович премного его благодарил за сие и расхваливал его; по от’езде же Грибоедова он приказал Могилевскому2 пересочинить все сие сызнова.
23-го [января]. Я был на званом обеде у Алексея Петровича по случаю прибытия сюда Гурияльского владельца, которого угощали. Он генерал-лейтенант нашей службы, имеет Аннинскую и Владимирскую звезды и носит генеральское шитье, эполеты и ленту на парадном одеянии своем. Он высокого роста, молод и хорош собою.
24-го. Я был на таком же званом обеде у старика Вельяминова, где находился тоже Гуриял. Ввечеру меня пилили разные скучни и очень долго. Я молчал, а гости все спорили между собой о преимуществе христианской веры над магометанской. Не зная последней, врали жестоким образом и приходили ко мне судиться. Напоследок кончилось тем, что армянин утверждал, что армянское евангелие ближе всех переведено к еврейскому; а Старков, не понимая о чем тот говорит, вступился, как патриот отечества, и уверял, что славянский язык имеет красоты преимущественные красотам всех прочих языков. Беда моя прекратилась приездом Воейкова; я оставил их спорить и провел вечер с ним в приятельском разговоре до полуночи.
25-го. Провел вечер у Грибоедова. Нашел его переменившимся против прежнего. Человек сей очень умен и имеет большие познания.
2-го [февраля]. Пришел ко мне обедать Грибоедов; после обеда мы сели заниматься и просидели до половины одиннадцатого часа: я учил его по-турецки, а он меня по-персидски. Успехи, которые он сделал в персидском языке, учась один, без помощи книг, которых у него тогда не было. Он в точности знает язык персидский и занимается теперь арабским. Я нашел его очень
переменившимся, и он очень понравился вчера. Он мне рассказывал, между прочим, обращение Мазаровича в Персии и каким он образом роняет честь своего звания, а следственно и государя, своим поведением в Персии. Когда получены были бумаги из Петербурга, которыми извещали Персидский двор, что турки своим поведением навлекают на себя гнев государя и сами задирают нас к войне, надобно было об’яснить Аббас-Мирзе1, что государь желает дать знать всем народам, что не страсть к завоеваниям его к сему понуждает, но единственно неправильные поступки турок против него. Грибоедов ходил к Аббас-Мирзе и об’яснил ему сие, говоря, что государь не требует союзников, но дает только ему знать о сем. Аббас-Мирза, обрадованный сим случаем, обещался выставить 50 тыс. воинов и итти на турок, что он и сделал. На другой день Мазарович, увидевшись с ним в саду, стал ему о том же говорить; но вместо того, чтобы соблюсти благопристойность, он просил Аббас-Мирзу быть союзником нашим, и в знак благодарности, когда тот об’явил свое согласие, схватил у него руку и поцеловал ее. Вот поступок, достойный иностранца, наемщика в нашей службе!
3-го. Грибоедов приходил ко мне поутру, и мы занимались с ним до пяти часов вечера. Вчера я получил письмо от Н. Н. Шереметевой, которым она извещает меня о новорожденном сыне Леониде у брата моего Михайлы. Она также обещается ходатайствовать о Сергее, чтобы его на волю выпустили.
5-го. Я провел часть дня у Грибоедова, занимаясь восточными языками. Ввечеру явились ко мне два денщика, которых Верховский для меня вытребовал из приходящих сюда рекрутских партий.
6-го. Был день происшествий. Я узнал поутру, что Рюмин приехал, ждал его к себе; но он не приходил. Воейков был у меня и, заставши у меня Грибоедова, сказал мне в другой комнате, что если б я одну вещь знал, то бы она меня очень рассердила. Я просил у него об’яснения; он не хотел об’ясниться, наконец, он ушел. В обед пришел ко мне Катани и сказал, что Рюмин еще поутру пошел из артиллерийского дома ко мне, взяв с собой чертежи свои; между тем Катани сказал, что он слышал, будто Рюмин был у главнокомандующего и у начальника штаба. Я применил слова Воейкова к сему случаю и, крепко рассердясь, готовился
Рюмина арестовать при первой встрече, ибо поступок сей служит продолжением прежних и означал прежнюю его склонность к хвастовству и неповиновению. Проступок его по службе был довольно важен. Я послал за Воейковым, чтобы переговорить с ним о сем случае; между тем пошел после обеда к Верховскому для себя самого. Верховский начал речь тем, что рассказал мне свое происшествие с Гиертой, который таскал из чертежной карандаши и тушь и стал отвечать ему дурно, когда он просил его не трогать сих вещей. Верховский принужден был его остановить угрозою, что он ему покажет свои права. Случай сей расстроил Верховского. За сим я ему рассказал Рюмина дело, и в то самое время пришел ко мне человек с известием, что Рюмин явился ко мне и дожидается с чертежами. Я просил Верховского быть свидетелем моего поступка с Рюминым, и он пришел ко мне. Рюмина работа была очень хороша. Я поблагодарил его; а между тем, узнавши, что он был у главнокомандующего и у начальника штаба и показывал им свою работу, я побранил его, как должно, и отпустил. Пришел Бобарыкин1, а за ним Воейков; я просил их из’яснить мне, в чем состояли слова, сказанные Воейковым поутру, полагая, что тут касается нечто до Грибоедова. После долгих отговорок Бобарыкин сказал мне, что накануне Грибоедов из’яснялся у Алексея Петровича Петру Николаевичу насмешливо насчет наших занятий в восточных языках, понося мои способности и возвышая свои самыми невыгодными выражениями на мой счет. Меня сие крепко огорчило. Необходимо должно было иметь поединок, чтобы остановить Грибоедова, что было весьма неприятно. Я пошел к Воейкову, где нашел Бобарыкина, об’яснил им, сколько происшествие сие было неприятно для меня, послав вслед за сим к Грибоедову книгу его и велев потребовать мои назад: и то было вмиг исполнено. Вскоре за сим явился ко мне Грибоедов, дабы я ему об’яснил причины, понудившие меня к сему поступку. Я ему об’яснил их и назвал свидетелей. Мы напали все на него и представляли ему его неосторожность. Он извинился передо мною и просил, чтобы я забыл сие; но Бобарыкин, имея старые причины на него сетовать, продолжал спорить с ним. Сие подало повод к колкостям с обеих сторон. Бобарыкин сознавался, что он не должен был мне передавать этих слов, не об’яснившись сперва с Грибоедовым, но сказал, что уважение его и преданность
ко мне понудили к сему. В самое это время Грибоедов вскочил и ушел.
Мое дело было поправлено, но Бобарыкин и Воейков оставались на дурном счету в глазах Грибоедова. Я намеревался и теперь намереваюсь пресечь понемногу знакомство с ним; но тут я должен был примириться с ним и принять его извинения, и потому я отправился с Бобарыкиным к нему и примирился с тем условием, однако ж, чтобы: 1) Грибоедов не смел после разносить сего, и 2) чтобы он вперед был осторожнее в своих речах. Он охотно согласился на сие и дал честное слово, что вперед будет осторожнее и нигде не разгласит сего дела. Я отдал ему книги и обещался заниматься попрежнему с ним. Бобарыкин извинился в том, что он сказал сие, а Грибоедов в том, что прежде подал ему повод неудовольствия на себя своими неосторожными шутками. И мы так расстались. Перед отходом Грибоедов дал мне письмо, которое он хотел послать к Петру Николаевичу и которым он просил его помирить его со мною. Я сжег сие письмо и пошел к Воейкову, куда вскоре и Грибоедов пришел и просидел с нами до 11 часов вечера. Я возвращался с Бобарыкиным домой с двумя фонарями, как встретился нам Газан с третьим фонарем. Мы зашли к нему и он рассказал нам следующее происшествие, случившееся с ним.
Здесь есть гражданский чиновник Похвиснев, привезенный недавно Алексеем Петровичем. Он брал книги у Газана. Газану они были нужны, и он отправился за ними к Похвисневу, не нашел его дома и стал рыться в книгах его, чтобы свои отыскать1. Человек Похвиснева не давал ему сего делать; но как скоро он увидел, что Газан насильно хотел сие делать, он вышел и запер его в комнате. Сколько Газан ни просил его отпереть двери и выпустить его, человек не делал сего. Газан выломал пинком дверь и вышел.
За сим я пошел домой и лег спать, вспомнив, что несколько раз в жизни мне случалось иметь дни, преисполненные происшествиями, неприятностями, и был рад, что те, которые до меня касались, так хорошо кончились.
7-го. Поутру был у меня Миллер; ввечеру я к нему зашел, и он толковал мне новую систему Ганемана, по которой лечат болезни самой меньшей долей лекарства, и лекарства не должны
быть противодействующие болезни, но которые бы могли произвести ее, когда человек находится в здоровом состоянии1. Ввечеру был у Алексея Петровича; он поговорил со мною несколько о делах Туркменских и Хивинских и, сколько я мог заметить, видно, что настоящей цели никакой не имеется, а кажется, что обещал государю много выгод от предполагаемого заведения.
10-го. Я был почти целый день дома и занимался. Я писал к Грибоедову записку, в которой я об’яснял ему, что занятия мои по службе не позволяют мне больше продолжать занятия наши в восточных языках и что в субботу должен у нас последний урок быть2. Ввечеру поздно он ко мне пришел и просидел до полночи. Образование и ум его необыкновенны.
27-го. Я ходил к Алексею Петровичу и носил к нему турецкую грамматику, которую я для него сочинил. После полдня я ходил к Грибоедову, который был болен сии дни. Он получил при мне записку от одного англичанина Мартина, который просил его прислать к нему лекаря, потому что был болен, но он никакого языка, кроме английского, не знал3. Мы искали средства, чтобы доставить ему переводчика и как другого не было, как мне самому итти, то я написал записку к Миллеру, которою я просил его притти к нему, а сам отправился. Сей несчастный приехал из Калькутты в Тавриз для лечения, полагая, что холодный климат будет ему полезен. Из Тавриза он сюда прибыл из любопытства и еще более занемог; он принимал множество меркурия и хины, которые расстроили его здоровье. Положение его заслуживает сострадания.
15-го [марта]. Поутру заходил ко мне Грибоедов с англичанином Мартином, который оправился от своей болезни и сбирается на днях отсюда ехать. После обеда я ходил с Верховским в сады, которые на острове на Куре, ниже города, версты за три или за четыре отсюда. Я нашел прекрасный сад, в коем бесчисленное множество аллей виноградных; он очень обширен, и можно его назвать лабиринтом, ибо множество крытых дорожек и стен, разделяющих владельцев сего сада, делают его очень сложным
и кто в первый раз в нем, не скоро найдет в нем дорогу. Зелень мало-по-малу начинает показываться. Летом же на сем острове вечная прохлада от тени старых каштановых деревьев и бесчисленного множества водопроводов, орошающих сие место. Если мне доведется здесь лето прожить, то я намереваюсь избрать в сем саду хорошее место под тенью старого каштанового дерева, разбить там свою палатку и укрываться от несносной жары, удушающей городских жителей.
16-го. Я был позван Алексеем Петровичем на обед, для того, чтобы говорить с англичанином Мартином, который кроме своего и персидского языка никакого не знает.
17-го. Я получил по российской почте посылку: напечатанную вторую часть моего путешествия в Хиву1. Где ни раскрывал я книгу, находил я множество ошибок, как опечаток, так и в слоге, а что всего обиднее, много ошибок в описании края. Я огорчился, пошел к Верховскому и отдал ему книгу, прося его прочесть ее и сказать мне свое суждение. Он обещался сделать сие, но посоветовал мне отнести к И. А. Вельяминову, который лучше всех в состоянии сказать о ней основательное суждение. Во всяком случае я намерен написать о ней критику и послать ее для напечатания в журнал. Со времени сочинения сей книги, я во многом усовершенствовал свои сведения о Востоке и вижу большие ошибки; но какая книга бывает совершенна, особливо та, которая касается столь нового и никому неизвестного предмета?
19-го. Я провел часть дня у Грибоедова и обедал у него, занимаясь с ним турецким языком. Ввечеру я был у Алексея Петровича, а оттуда зашел к Верховскому, который прочитывал вторую часть моей книги путешествия в Хиву и Туркмению, и нашел ее очень хорошей. Он уверял меня, что я из личного предубеждения против себя находил ее дурною.
31-го марта провели у меня вечер Грибоедов и Кюхельбекер2 ; первый был так любезен вчера, что можно бы почти
забыть его свойства. Поздно ввечеру я был у Алексея Петровича. Приехал фельд’егерь, который привез известие о разных производствах в корпусе, между прочим, и коменданта Грабарача в подполковники.
16-го [апреля] я ходил ввечеру в собрание и узнал там от Грибоедова происшествие, недавно случившееся между Кюхельбекером и Похвисневым. На днях они поссорились у Алексея Петровича, и как Похвиснев не соглашался выйти с ним на поединок, то он ему дал две пощечины. Алексей Петрович, узнавши о сем, очень сердился, сказав, что Кюхельбекера непременно отправит отсюда в Россию, а между тем велел, чтобы они подрались. У Похвиснева назначен секундантом Павлов, а Кюхельбекер послал на Гомборы по сему предмету за артиллерийским штабс-капитаном Листом, с которым он очень дружен.
17-го я обедал у Ивана Александровича и ввел его в разговор о разных злоупотреблениях, здесь делающихся. Он бесщадно истреблял Ладинского, называя его почти преступником и удивляясь, что до сих пор еще Алексей Петрович, зная его поступки, терпит его в службе. Я перевел разговор насчет Высоцкого, которого он тоже крепко обвиняет в грабежах. Зная правдивость старого Вельяминова, я начал переменять мысли свои насчет сего человека; но меня еще более уверил в сем следующий случай. Я пошел после обеда к Базилевичу и по дороге зашел к Мадатову1, который с большим беспокойством начал говорить о Высоцком, рассказывал его поступки, оправдывая свои, что мне показалось очень удивительно. Видно, что и он замешан в сем деле. Поговорив, таким образом, с час, он вдруг об’явил мне, что Высоцкий рассказывал, что я ему советовал написать письмо к Алексею Петровичу. Меня очень удивил сей поступок со стороны Высоцкого; он был у меня наедине и, жалуясь на свое положение,
просил совета, говоря, что он намерен писать к Алексею Петровичу; я сказал ему, что он, Ермолов, не любит писем, и что если он решится сие сделать, то должен прежде разведать, в чем его обвиняют, а потом писать, если он невинен, и потому если, как он говорил, Иван Александрович к нему хорошо расположен, то он должен сперва у него спросить, в чем его обвиняют. Сие сказать ему был долг мой, а он разгласил сие, сказав, что я ему советовал писать письмо. Я об’яснил Мадатову дело и сказал, наконец, что если он не намерен был сему верить, то мне никакого дела до сего не было, потому что я не менее того прав останусь, и ушел к Базилевичу, где провел с большим удовольствием время до вечера. Оттуда я ходил к Алексею Вельяминову, у которого Алексей Петрович приказал мне получить изустное наставление для руководства моего в командовании в Тарках. Главнокомандующий, как я догадывался из слов его, старался уверить меня, что поручение сие гораздо лестнее того, что оно в самом деле есть. Я, кажется, буду просто наблюдать за строениями. Я узнал от него также, что представления мои еще не пошли, а пойдут теперь вскоре, с первым фельд’егерем; что меня еще не представили к званию полкового командира, потому что вакантных полков еще нет и, кажется мне, что сие случится не прежде осени. Впрочем, я буду доволен провести лето в Тарках и начальствовать двумя батальонами, которые там будут находиться.
19-го я обедал у губернатора, где слышал от него самые неприличные отзывы об Вельяминове. Ермолов [Петр Николаевич] после обеда приехал ко мне и рассказал мне дело Похвиснева с Кюхельбекером. Грибоедов причиною всего, и Кюхельбекер действовал по его советам. Мне сказал Ермолов, что Алексей Петрович имеет тайное приказание извести Кюхельбекера, невзирая на то, кажется, что слабость его допустит последнего до того же состояния, в котором он прежде был принят у него в доме.
Я получил вчера письмо от Юрьева, которым он извещает меня, что два судна были разбиты около Карабузасского залива и были сожжены туркменами, что из захваченных людей Киат выручил трех. Ввечеру приехал сюда брат Ермолова, служащий прапорщиком в гвардейском генеральном штабе.
20-го. Кюхельбекер стрелялся с Похвисневым; один дал промах, у другого пистолет осекся, и тем дело кончилось.
29-го ввечеру я был у Алексея Петровича, который об’явил нерадостную весть. Он показал мне письмо от кн. Волконского1, который ему пишет, что он уже не смел докладывать государю о дании мне полка после того ответа, который он получил от государя насчет Верховского, что его должно сперва перевести к старшему в полк, дабы он обучился фронтовой службе, а после того уже поручить ему полк.
30-го апреля поутру я был у Алексея Петровича и просил его перевести меня в какой-нибудь полк до времени, пока я буду в Тарках, дабы к возвращению моему оттуда получить полк. Он с удовольствием обещался сделать сие.
2-го [мая] Ермолов сбирался выехать, но отложил от’езд свой до 3-го числа. Я ходил к нему спрашивать, в какой он меня полк представил, и он сказал мне, что в Грузинский, откуда я уж буду переведен командиром 7-го карабинерного полка.
3-го. Я получил неудовольствие от Воейкова, которое меня сильно огорчило. Накануне я сторговал за 15 червонцев саблю; на другой день, когда я послал за нее деньги, я узнал, что она уже продана Воейкову за 16 червонцев. Я увиделся с Воейковым. Он купил ее, не знав, что она уже моя была, и я просил уступить ее мне, тем более, что у него их две было, а у меня ни одной не было. Он мне отвечал довольно грубо, что сабля эта его, что он ее купил и что он знать не хочет о том, что я ее сторговал.
4-го в 9 часов утра Ермолов уехал. Грибоедов, проводив его, приехал ко мне обедать2.
[Сентябрь]. В Тифлисе было две невесты, на коих все обращали глаза: дочь покойного артиллерии генерал-майора Ахвердова и дочь совестного судьи Перфильева. Первая была скромная и весьма хорошо воспитанная девушка, но жила с мачехою своею,
женщиною, которая по правилам своим пользовалась всеобщим уважением, но по смерти мужа своего, управляя оставленным имением сирот, по незнанию своему, почти совсем истребила оное. Как тому более всего способствовал род жизни, который она вела несообразно своему и их состоянию, то и можно почти сказать, что имение сие было промотано, хотя и без всякого дурного умысла со стороны Прасковьи Николаевны Ахвердовой. Она была обижена и обманута теми людьми, коим доверяла управление имением своим в России. Содержась давно уже имением сирот, коих она была попечительницей, она едва уже находила средства к дневному содержанию своему и семейства своего. Но при всем том вечеринки, балы, выезды, наряды шли прежним порядком и умножали долги ее. Красота и воспитание Софьи Ахвердовой привлекали в дом ее множество гостей. Многие в нее влюблялись, но не приступали к женитьбе, опасаясь расстроенного состояния дел ее. Брат Софьи Федоровны1 был отправлен в Петербург в Пажеский корпус, где о воспитании его имели мало попечения. Прасковья Николаевна имела еще собственную дочь, лет 10-ти, которую она также воспитывала весьма хорошо. В доме жила еще двоюродная сестра нынешней жены моей, Ахвердова. В числе женихов для Сонюшки выбирали разных людей, коих нравственность и правила, по легкомыслию Прасковьи Николаевны, казались удовлетворительными. В таком роде был один грек Севиньи, плут скаредный и обманщик, который говорил хорошо по-французски и обольстил старуху до такой степени, что она обручила за него Сонюшку, когда ей было только 12 лет; но подложные письма его и все поведение были открыты Грибоедовым, который в сем случае поступил по-рыцарски: он изгнал его из круга дома сего2. Севиньи скоро уехал в Россию, где обнаружил себя фальшивыми паспортами и кражею3. Имение детей покойного
Ахвердова состояло из дома и сада в Тифлисе, которые Прасковья Николаевна стала разыгрывать в лотерею. Собранные до сих пор 44 тыс. рублей были из опеки взяты опекуном князем Чавчавадзевым, который уплатил оными собственные долги, частью передав попечительнице, и не в состоянии был платить исправно проценты. Попечительница продавала вновь билеты, записываемые на приход в капитал, которого давно уже не существует. Приязнь между обоими семействами была причиною, что до сих пор не было никаких исков; их и вперед не будет; они оказались бы тщетными. Не менее того имение сирот исчезло, деньги за билеты взяты, и лотерея уже восемь лет осталась без розыгрыша. Все сии обстоятельства устрашали женихов.
В то время была еще другая невеста в Тифлисе, славившаяся своею красотою, искусством петь и танцевать, недавно прибывшая с отцом своим, полька Александрина Перфильева. Отец ее, прибывший на службу в Грузию с семейством своим, был вскоре по покровительству Ховена назначен совестным судьею. Дом их имел все признаки шляхетского происхождения; но Александрина, вскружившая многим молодым людям голову, не могла никогда занять меня, хотя многие и предназначали мне ее в супруги. Непомерное желание нравиться и слухи об упрямых свойствах ее достаточны были, чтобы совершенно отклонить с моей стороны всякий иск или желание принять ее в жены. Еще перед выездом моим из Тифлиса я предупредил Мазаровича о желании моем и выборе и просил узнать о состоянии дел Ахвердовой и о расположении ее, но с тем, чтобы не об’яснять ничего. В Джелал-Оглу я получил ответ его. Я мог видеть, что она ничего не имела; но я не искал состояния, а жену.
В начале года я опять приехал из Манглиса1 в Тифлис, но с твердым намерением не отлагать более избрания себе супруги. Мазарович, коему я в прошлом году перед походом говорил о намерении моем жениться на Ахвердовой, тогда же писал к мачехе ее, и, как я после узнал, избираемая мною невеста не
из’явила мачехе1 своей совершенного согласия быть за мною замужем, о чем, кажется, не было говорено Мазаровичу, который не мог сомневаться в успехе сего дела. Впрочем, я ему не поручал никакого ходатайства, и никому не поручал оного, желая сам все кончить, как сие и случилось без чьей-либо посторонней помощи. Я не колебался в выборе себе невесты и не помышлял избрать Александрину Перфильеву или дочь князя Арсения Бебутова, но устремил мысль на нынешнюю жену свою, хотя и не чувствовал к ней сильной страсти и хотя мне несколько нравилась княжна Нина Чавчавадзе; но ее лета2, ум и воспитание далеко отстали от тех же качеств Сонюшки Ахвердовой3. Я совещался с Мазаровичем, дабы узнать в подробности те обстоятельства, которые затрудняли меня в решении, а именно состояние дел ее, сношения с мачехою и тот обширный круг всякого народа, который ежедневно наполнял их и который бы я весьма желал удалить от себя.
Я узнал от Мазаровича, что хотя и нельзя было ожидать приданого (потому что все имение, оставленное ей и брату ее покойным отцом, было запутано, повидимому, беспечностью опекуна князя Чавчавадзе и неумеренностью мачехи ее), но долгов она не имела, и сего мне было достаточно, ибо я не искал богатства, а искал жены. О состоянии мачехи я также узнал, что оно было в самом расстроенном положении, что она была вся в долгах,
но что долги сии нисколько не падали на сирот. Насчет шумного круга, посещавшего дом ее, Мазарович уверял меня, что с появлением моим он весь разойдется, и сей последний предмет один только мог меня затруднять. Впрочем, дабы иметь лучшие сведения, я обратился к Грибоедову, коему состояние дел ее было известно1. Он достал мне какую-то таблицу, по коей видно было, что долги старухи простирались сверх 30.000 руб., что имение падчерицы ее, хотя и полагалось налицо, но что оно было все почти издержано старухою. Оно состояло из дома и сада, которые были заложены и сверх того разыгрывались в лотерею уже 7 лет в 80.000 руб.; деньги, за билеты вырученные, более 40.000 руб., были издержаны; выхлопотанные Алексеем Петровичем в пользу вдовы сей от государя 20.000 руб. были им удержаны в пользу сирот и отданы в Приказ Общественного Призрения, но опекуном взяты. Он по ним обещался платить проценты в пользу сирот, но не делал сего, и проценты добывались старухою, продававшею вновь билеты и записывавшею их на приход в капитал, коего таким образом собралось 44.000. Но между тем опекун был ей порукой в займе у другого лица денег. Довольно ясно было видно, что ни дома, ни имения сего более не существовало, но меня сие не беспокоило. Кроме того, имелся еще дом и пять дворов крестьян, которые давали небольшой доход и коим пользовалась старуха; но и сие не могло остановить меня. Касательно сношений моих со старухою, Грибоедов уверял меня, что он на моем месте всячески старался бы удалить ее в Россию после свадьбы, в чем он был совершенно справедлив. Он сам был весьма рад намерению моему и всячески старался склонить меня в деле, коем не нужно мне было посторонних советов, почему я и не просил его дальнейшего участия. Но тут же, при об’яснениях, сознался я ему, что Нина Чавчавадзе мне более нравилась, а он сознался, что был неравнодушен к Ахвердовой, но не помышлял о женитьбе, потому что не имел состояния.
Я не имел с Грибоедовым никогда дружбы; причины сему были разные. Поединок, который он имел с Якубовичем в 1818 г., на коем я был свидетелем со стороны последнего, склонность сего человека к злословию и неуместным шуткам, иногда даже
оскорбительным, самонадеянность и известные мне прежние поступки его совершенно отклонили меня от него, и в сем случае, хотя доверенность, мною ему сделанная, сближала меня с ним некоторым образом, но не склонила меня к нему с лучшим душевным расположением, и я до сих пор остался об нем мыслей весьма невыгодных насчет его нравственности и нрава.
Между тем слух, не знаю на чем основанный (ибо я оному повода не давал), разнесся по городу, что я женюсь на Перфильевой. Так как я не был оному виною, то я и не заботился о прекращении оного, и оставил всех в заблуждении сем, более скрывавшем действия мои для достижения предполагаемой мною цели1.
Княжна Нина Чавчавадзе вышла в сем году замуж за Грибоедова2. Дело сие сделалось внезапно, пока мы находились под Ахалкалаками. Кажется, что сему способствовала Прасковья Николаевна, коей слишком короткое обхождение с Грибоедовым и даже дружба с ним весьма предосудительны и не могли мне нравиться, когда я весьма далек от того, чтобы иметь хорошее мнение о человеке сем. Мне даже не могло посему быть и приятно, что он был принят, в отсутствие мое, в доме, коего я хозяин, как самый ближайший родственник. Нет сомнения, что Сергей Николаевич Ермолов не мог быть супругом Чавчавадзевой; но, зная его добрый нрав и честные правила, я бы всегда предпочел его в сем случае Грибоедову, на правила коего не мог бы я положиться. В сем случае руководствовали родителями разные виды, кроме доверенности, которую имели к жениху. Он был назначен министром к Персидскому двору, получил непомерно большое содержание, получал от государя по представлениям (Паскевича,
коему он вдобавок был по жене двоюродный брат) большие денежные награждения. Все сие способствовало ему, и он получил весьма скоро согласие родителей. Князь Александр [Чавчавадзе] так поторопился в сем случае, что даже не уведомил меня о том предварительно, как мы о том уговорились при прекращении ходатайства моего о Сергее Николаевиче, коему следовало бы сперва отказать.
Курганов не прекращал своих доносов1, и я недавно слышал, что Эристов и Мухранский, до смены Алексея Петровича, ходили по ночам, переодетые в бурках и грузинских шапках, к Паскевичу, показывая через сие опасность, в которой находились, если бы были открыты. Обстоятельство сие истинное и дает понятие как о предосудительном расположении друг к другу начальников, так и о глупости доносчиков.
Не подвержено почти сомнению и то, что Грибоедов в сем случае принял на себя обязанности несогласные с тем, чего от него ожидали его знакомые2. Казалось бы, что и самые связи родства, в коих он находился с Паскевичем, не должны были его склонить к принятию постыдного звания доносчика3.
Нас обвенчали 22 апреля 1827 г. Мы выехали из церкви вместе и приехали в дом к Прасковье Николаевне, где она уже ожидала нас с Алексеем Петровичем, Мадатовою4 и
Чавчавадзе1. За ужином присутствовали только вышеозначенные лица и приглашенные еще Мазарович с женою. Грибоедов приехал без приглашения. Вечер был скучный. Алексей Петрович засел играть в вист; жена моя была в большом замешательстве от столь быстрого переворота в жизни ее. В первом часу ночи раз’ехались, и я пошел с женою наверх в приготовленные для меня комнаты.
Накануне выезда своего Алексей Петрович2, прощаясь со мною в квартире младшего Вельяминова, отвел меня в сторону и предупредил меня, чтобы, невзирая на доверенность, которую ко мне оказывали, я никому из вновь прибывших не верил и, обращаясь со всеми по долгу службы, лично вел бы себя осторожно: ибо они показывали мне доверенность свою только по необходимости, которую во мне имели. Он предупредил меня, чтобы я не полагался на получение скоро места начальника штаба, которое мне обещали3, потому что Паскевич для сего выписывал одного генерала из России, который должен приехать, и прибавил, чтобы я наблюдал за сим и вел бы себя согласно с сим и что я неминуемо сам замечу намерения их. Я благодарил его за совет, но не мог ничего заметить до самого приезда графа Сухтелена4, о коем я узнал в Аббас-Абаде за несколько дней до приезда его в армию.
Я, помнится мне, тогда же сообщил слова Алексея Петровича Грибоедову, спрося его, справедливо ли сие; но он мне отвечал таким голосом, будто Паскевич не имеет сего в виду, что я более не мог бы усумниться в искренности намерений Паскевича относительно меня, если бы совершенно верил Грибоедову, который о сем, кажется, давно уже знал.
[Май]. Часто повторявшееся состояние исступления, в которое приходил Паскевич без всякой причины, возродило в нем,
наконец, желчную болезнь, с коею он через несколько дней своего пребывания в Шулаверах и выехал в Джелал-Оглу.
По прибытии в лагерь за Бабьим Мостом болезнь его усилилась до такой степени, что к ночи, казалось, уже было мало надежды к его выздоровлению. Видя, сколько потеря его могла произвести беспорядка и помня обещание, данное мною Дибичу1, не оставлять его и быть терпеливым, притом же руководимый человеколюбием, я принял личное участие в его болезни и вместе с Грибоедовым, который ему был родственником, не оставлял его и служил как ближнему, стараясь сколь возможно его успокоить и помочь ему, о чем он и отозвался однажды благодарностью.
[Июнь]. Однажды, потребовав меня к себе, Паскевич вспомнил о давнишнем намерении правительства нашего завоевать Астрабад и приказал в ту же минуту написать о сем предположение, которое он хотел послать к Дибичу. Я отвечал ему, что сие должно было основать на подробных сведениях о морских и провиантских средствах наших в Астрахани и Баку, что мне было неизвестно, и потому я не мог взять на себя положения сего, особливо в столь короткое время, как он сего требовал. Он отнес ответ сей к недоброй воле моей и приказал непременно сделать, говоря, что я там был и должен все знать. Видя, что нечего делать, я занялся сим делом и через несколько часов представил ему записку, в которой были самые неосновательные предположения по сему предмету, что оговорено было и в самом рапорте, изготовленном мною от Паскевича к Дибичу. Записка сия, которая ровно не могла ни к чему служить, сначала ему понравилась, и он принял меня ласково; но, по прочтении рапорта, ему показалось что-то в ней несогласного с его образом мыслей, и потому он начал перемарывать оную и поправлять. Паскевич читал и перечитывал рапорт сей, но сам не постигал его; наконец, по обыкновению своему, рассердился и, сказав, что он неверно списан, приказал к себе принести черновой, нашел его во всем сходным с подлинником, наставил еще точек и запятых, так что смысл оного совершенно уже затмил, и отдавая мне оный для отправления: «Voila, monsieur», — сказал он, — «comme il
faut strictement observer la ponctuation; tout dépend de là ». Я не мог смеяться; но вышел из комнаты, встретил Грибоедова, которому и об’яснил, сколько я затруднялся послать сию бумагу к Дибичу, прося его совета, как поступить в сем случае. Он мне сказал, что делать было нечего и что рапорт надобно было так отправить, что я и сделал; но, кажется, на оный и ответа не было, по крайней мере, ответ сей мне в руки не попадался. Я старался достать список впоследствии времени с сего донесения, дабы поместить оный, как редкость, в сии записки, которые я предполагал всегда продолжать; но не нашел к тому средств и оставил дело сие, которое могло подвергнуть меня большим неудовольствиям.
[Июль]. Я продолжал заниматься еще своею обязанностью и в ту же ночь пришел еще к нему [Паскевичу] с докладом. Он тогда был занят реляциею о победе над Аббас-Мирзою, которая никак не клеилась по его желанию. Писал ее Вальховский, писал Грибоедов1, и все не выходило того, что ему хотелось. Просмотрев со мною принесенные бумаги, он обратился ко мне с дружеским видом: « Mon cher général », — сказал он, — « faites moi l’amitié d’écrire de ma part un mot au général Sipiaguine, pour le prévénir de la victoire, en lui disant que les dètails ulterieurs viendront à la suite ». Возвратясь в свою палатку часу во втором после полночи, я продиктовал Ахвердову2, при мне находившемуся в должности ад’ютанта, письмо от Паскевича к Сипягину3, в коем пояснено было вкратце все дело, не упустив ничего того, что могло служить к представлению дела сего в настоящем виде, т. е. победы, означив число пленных, знамен и проч. Но как я удивился, когда, по прочитании письма сего Паскевичу, я увидел, что он выходил из себя. «Кто это писал?» — закричал он. — «Я писал». — «Кто писал?» — возразил он снова. — «Писал Ахвердов по моей диктовке». — « Àrrêtez moi cet homme , — закричал он, — c’est un petit coquin». Я, разумеется, не арестовал его, а спросил Паскевича, чем Ахвердов провинился. «Вы, сударь, — отвечал он мне в пылу, — не поместили всего в реляции». — «Это не реляция, — сказал я, — а краткое письмо в
предупреждение генерала Сипягина до отправления настоящей реляции, которую вы мне не приказывали написать». — «Вы, сударь, скрыли число пленных ханов: их взято семь, а не три, как вы записали». — «Их взято только три». — «Неправда, сударь, семь взято; сочтите их в палатке». В палатке точно сидело семь человек пленных с ханами, но в том числе были и прислужники их, что я ему и об’яснил; но он не хотел принять сего. «Вы написали мало пленных, — продолжал он. — Алексею Петровичу Ермолову написали бы вы 30 ханов и 30.000 неприятельского урона, а мне вы не хотите написать семи ханов. Когда Суворов имел дело с войском сильнее 30.000, то у него менее 80.000 неприятеля в реляциях не значилось. Вы знаете, как он всегда увеличивал урон неприятеля, а мне вы сего сделать не хотите; но я знаю, что это все последствия интриг ваших с Ермоловым: вы хотите затмить мои подвиги и не щадите для достижения цели вашей славы российского оружия, которую вы также затемнить хотите, дабы мне вредить»1. Слова сии были столь обидны, что я не мог выдержать оных. «Ваше высокопревосходительство обвиняете меня, стало быть, в измене, — отвечал я. — Обвинение сие касается уже до чести моей, и после оного я не могу в войске более оставаться. Прошу вас отпустить меня теперь в Тифлис». — «Как вы смеете проситься?» — сказал он. — «Я доведен до крайности». — «Но вы знаете, что теперь ни отпусков, ни отставок нет». — «Знаю, а потому и уверяю вас, что моя главная цель состоит единственно в том, чтобы не служить под начальством вашим; каким же образом достигну до оной, до того мне дела нет. Вы меня до того довели, что я буду счастлив удалиться отсюда, под каким вам угодно будет предлогом. Угодно вам, отпустите меня; угодно, командируйте по службе; угодно, ушлите, удалите со взысканием, как человека неспособного, провинившегося, с пятном на всю мою службу. Я уверяю вас, что всем останусь довольным, лишь бы не при вас служить». — «Хорошо, — сказал он с видом гораздо спокойнее, — я ваше дело решу ужо, а теперь прошу вас до того времени продолжать занятия ваши
попрежнему». Я пошел к Грибоедову, рассказал ему все происшествие и об’яснил, что более в войске не остаюсь. Сколь ни было прискорбно Грибоедову, по родству его с Паскевичем, видеть ссору сию, но он не мог не оправдать поведения моего в сем случае1.
25-го [июля] ввечеру я виделся на весьма короткое время с Грибоедовым, который, от’езжая в Персию в звании генерального консула, заехал повидаться с Паскевичем и принять от него приказания2. Но сему посещению была еще следующая причина. Грибоедов с’ездил курьером к государю с донесением о заключении мира с Персиею, получил вдруг чин статского советника, Анну с бриллиантами на шею и 4.000 червонцев. Человек сей, за несколько времени перед сим едва только выпутавшийся из неволи, в которую он был взят по делу заговорщиков 14 декабря и в чем он, кажется, имел участие (за что и был отвезен с фельд’егерем в Петербург к допросу)3, достижением столь блистательных выгод показал редкое умение свое. Сего было мало: он получил еще в Петербурге место генерального консула в Персии с 7.000 червонцев жалованья, присвоенными к сему месту. Грибоедов, таким образом, вмиг сделался и знатен, и богат. Правда, что на сие место государь не мог сделать лучшего назначения; ибо Грибоедов, живши долгое время в Персии, знал и хорошо обучился персидскому языку, был боек, умен, ловок и смел, как должно, в обхождении с азиатцами. Притом же, по редким способностям и уму, он пользовался всеобщим уважением и лучше кого-либо умел поддерживать в настоящей славе звание сие как между персиянами, так и между англичанами, имевшими сильное влияние на политические дела Персии и пребывающими постоянно в Тавризе, под предлогом учителей или образователей регулярного войска.
Я, кажется, выше упоминал, в каких личных сношениях я находился с Грибоедовым. Я был весьма далек от того, чтобы к нему иметь дружбу и (как некоторые имели) уважение к его
добродетелям, коих я в общем смысле совсем не признавал в нем, а потому и не буду повторять сего. Но как я сам удалялся от него, то и всякое сближение его с семейством моим было для меня неприятно. Мне всегда было досадно видеть, сколько Прасковья Николаевна [Ахвердова] имела к нему доверенности, и тем неприятнее было узнать о сильном участии, которое она приняла в помолвке Грибоедова на Нине Чавчавадзе, ибо он к нам под Ахалкалаки приехал, к удивлению всех, уже женихом ее1.
Грибоедов имел много странностей, а часто и старался прослыть странным, для чего говорил вещи странные и удивлял других неожиданностью своих поступков. Нина прежде еще его несколько занимала, и как он извлекал изо всего пользу для своей забавы, то пользовался пущенным о том слухом, дабы выводить из себя ее страстного обожателя Сережу Ермолова. За это однажды у них дошло было почти до поединка, что и прекратило насмешки Грибоедова. Приехавши из Петербурга со всею пышностью посланника при Азиатском дворе, с почестями, деньгами и доверенностью главнокомандующего, коего он был родственник, Грибоедов расчел, что ему недоставало жены для полного наслаждения своим счастьем. Но, помышляя о жене, он, кажется, не имел в виду приобретение друга, в коем мог бы уважать и ум, и достоинства, и привязанность. Казалось мне, что он только желал иметь красивое и невинное создание подле себя для умножения своих наслаждений. Нина была отменно хороших правил, добра сердцем, прекрасна собой, веселого нрава, кроткая, послушная, но не имела того образования, которое могло бы занять Грибоедова, хотя и в обществе она умела себя вести. Не имея никого другого в виду, Грибоедов думал о Нине, и с сими думами отправился в Гумры, дабы оттуда приехать в Карс к Паскевичу, но дорогою вздумал жениться и внезапно возвратился в Тифлис, приехал ко мне в дом и открыл свое намерение Прасковье Николаевне, которая от сего была в восхищении. Кроме того, что она надеялась видеть их счастливыми, потому что заблуждалась насчет Грибоедова, ей льстил выбор Грибоедова, ибо Нина была ею воспитана. Она, может быть, вспомнила вскоре после первой радости своей, что сие
супружество подает ей средства поправить свои дела по доверенности, которую Грибоедов имел у Паскевича. Она вмиг побежала к Чавчавадзевым и без затруднения нашла скорое согласие на сие матери и бабки Нины, двух грузинок, из коих последняя хотя и умная женщина, но прельщалась связью и сближением с великою, единою ведомою им властью главнокомандующего в Грузии, коего участие было весьма нужно в расстроенном состоянии дел семейства их и тяжбах имели с казною.
Грибоедову сказано было испросить согласие Нины. Он к сему приступил весьма простым образом и получил оное. Нина после говаривала, что она давно уже имела душевную склонность к Грибоедову и желала его иметь супругом. Все сие было улажено у меня в доме. Послали курьера к отцу Нины, который начальствовал войсками и областью в Эривани, и ответ от него получен, без сомнения, утвердительный; он всех более радовался сему союзу1.
Итак, Грибоедов из Тифлиса приехал к нам в Ахалкалакский лагерь женихом. Я его видел, так сказать, мельком в палатке у Паскевича, и он хотел уже со мною быть на родственной ноге, ибо Ахвердовы были через князей Челокаевых в родстве с Чавчавадзевыми; но я не отвечал ему тем же образом, и он мог видеть во мне прежнюю мою недоверчивость к нему. Мне весьма не нравилось, напротив того, сближение его с моим семейством, и я безошибочно был уверен в сильном участии, которое Прасковья Николаевна принимала в сем браке. И Сережа Ермолов был в досаде, но он старался скрыть сие и говорил, что более не думает о Нине и желает ей всякого счастья.
Грибоедов женился по возвращении в Тифлис со всею пышностью посланника1, и с таковою же отправился вместе с женою в Персию, где он был убит в народном возмущении. Происшествие сие будет описано в своем месте. К удивлению многих прочитали в журнале Греча после смерти Грибоедова напечатанное письмо его к Гречу, в коем он описывает обстоятельства его женитьбы2. На Нину он взирал более как на забаву, чем на жену. Я дал сие заметить Прасковье Николаевне, коей выражения его также не нравились; но, будучи уже слишком ослеплена им, она не могла сознаться в своем ошибочном о сем человеке понятии.
Описывая разные связи и интриги Тифлиса3, нельзя умолчать о причинах, которые, как кажется, подали повод к сближению Грибоедова с З., каковое всем казалось безобразным по совершенному различию сих двух особ4.
Когда Грибоедов ездил в Петербург, увлеченный воображением и замыслами своими, он сделал проект о преобразовании всей Грузии, коей правление и все отрасли промышленности должны были принадлежать компании на подобие Восточной Индии. Сам главнокомандующий и войска должны были быть подчинены велениям комитета от сей компании, в коем Грибоедов сам себя назначал директором, а главнокомандующего членом; вместе с сим предоставил он себе право об’являть соседственным народам войну, строить крепости, двигать войска и все дипломатические сношения с соседними державами. Все сие было изложено красноречивым и пламенным пером и, как говорят, писцом под диктовку Грибоедова был З[авилейский], которого он мог легко завлечь и в коем он имел пылкого разгласителя и ходатая к склонению умов в его пользу1. Грибоедов посему старался и многих завлечь; он много искал сближения со мною, но я всегда удалялся от него. Когда он приезжал в Ахалкалаки на короткое время, обручившись с Ниною Чавчавадзевой (супружество, предпринятое им в тех же пламенных и пылких ожиданиях, по коим он сам хотел преобразоваться в жителя Грузии, супружество, которое никогда не могло быть впоследствии времени счастливым по непостоянству мужа, и коему покровительствовала ослепленная Грибоедовым Прасковья Николаевна), он замолвил о своем проекте Паскевичу (что было уже в отсутствие мое к Хыртысу) и, говорят, настаивал, чтобы приступлено было к завоеванию турецкой крепости Батума, что на Черном море, как пункта, необходимо нужного для склада в предполагаемом распространении торговой компании2. Говорят,
что Паскевич несколько склонялся к сему, увлеченный надеждою на легкие сношения с царевною Софьею, правившею тогда Гуриею в соседстве с той стороны с Турцией, женщиною довольно молодою еще, собою видною и известною в том краю по бойкости своей и влиянию, которое она в народе имела. Не будучи расположена с усердием к русским, она впоследствии времени бежала в Требизонт с несовершеннолетним своим сыном и через то фамилия сия лишилась права на владение Гуриею, для управления коей, кажется, назначен был русский комендант. Не могу утвердительно сказать, но, кажется, что даже были тогда сделаны некоторые приготовления к сей экспедиции. После того генерал Гессе, предпринимавший несколько походов из Имеретии в ту сторону, имел постоянные неудачи. Проект сей, уничтожающий почти совершенно власть Паскевича, не мог ему нравиться, и он впоследствии времени не был взят во внимание никем. Когда же Грибоедов, женившись, уехал в Персию, то З[авилейский], полагая себя как бы поверенным Грибоедова, сильно вступался за оный и уверял даже, что он находится на рассмотрении у министра финансов в Петербурге. Таким образом, он мне однажды прочитал довольно длинное вступление к сему проекту. Оно было начертано Грибоедовым и было чрезвычайно завлекательно как по слогу, так и по многоразличию новых мыслей, в оном изложенных; но по внимательном рассмотрении вся несообразность огромного предположения сего становилась ясною, и никто не остановился бы на сем любопытном, но неудобосостоятельном предположении, от коего З[авилейский] приходил в восторг. Я же готов думать, что Грибоедов, получив назначение министра в Персии, значительные выгоды и почести, сделался равнодушнее к своему проекту и, обратясь к новому предмету, стал бы о прошедшем говорить с улыбкою, как о величественном сне, им виденном, причем, вероятно, не пощадил бы и З[авилейского], к коему невозможно было, чтобы он имел дружбу или уважение1.
Проект сей, без сомнения, и остался без всякого внимания со стороны начальства, но З[авилейский] полагал себя образователем Грузии. Он вздумал заводить стеклянный завод, заведение весьма полезное в Грузии, ибо стекло туда привозят из России и оттого оно стоит дорого. Многие об исполнении такого предположения уже давно заботились, ибо оно доставило бы существенные выгоды заводчику, и притом же самый край представляет к тому все удобства. Несколько лет тому назад князь Эристов устроил было такой завод в Карталинии; выходило хорошее стекло, но завод сей был оставлен, потому что на увеличение оного, как говорят, князь Эристов не хотел предварительно употребить несколько денег и неисправно платил мастеру. Азиатцы неохотно жертвуют капиталами в надежде на будущие приобретения и вознаграждения; да к тому же и нельзя класть в Грузии денег на заведения промышленности, ибо там еще все слишком сближено с военным управлением, и участь каждого лица или всякого заведения зависит от доброго или дурного расположения какого-нибудь окружного начальника. Сами же чиновники по сей причине могут с большим успехом заниматься таковыми устройствами: ибо они сами суть члены утеснительной власти. З[авилейский] без замедления завел подписки на акции для устроения стеклянного завода, и предположение его вмиг поспело на листке с такою же неосновательностью, как и все им предпринимаемое. К акциям сим многие подписались, но никто денег не дал, а З[авилейский] вообразил себе, что уже все сделано, и носился с подписным листком ко всем, уговаривая новых членов. «Поспешите», говорил мне, «ибо уже только 10 акций осталось, все разобраны». Я внутренне смеялся сему; но видя многие подписи на большие суммы, дабы не оскорбить подписчиков изложением мнения своего, всегда ответствовал, что не имею денег. Можно даже было подозревать, что если бы кто-либо и деньги дал, то завод не завелся бы: он бы и денег своих обратно не выручил от З[авилейского]. В сих предположениях было изложено, что Бурцов, которого назначили командиром Херсонского гренадерского полка, должен был по случаю постоянного пребывания его со штаб-квартирою полка своего в городе Гори, что в Карталинии, быть попечителем сего завода, имевшего устроиться в Карталинии на землях, коих владение еще оспаривалось разными помещиками. Бурцов вероятно смекнул неосновательность предположения и, дабы отделаться,
подписался, и как от него требовали планов, то он прислал фасад домика, начертанный без всяких соображений каким-то сараем с окошками, что им было сделано, вероятно, в полчаса, и З[авилейский], для придания более важности сему делу, приобщил рисунок сей к бумаге и показывал его всем в удостоверение участия, принятого Бурцовым, и успеха, последовавшего в устроении стеклянного завода. Но он меня не обманул своим шарлатанством, а денег ни с кого не стянул, и предположение сие предалось забвению без всякого даже начала. На следующий год он изобрел еще новое вроде сего, но в гораздо большем масштабе; подписки принимались на 8 тыс. и 10 тыс. рублей. Многие подписывались, потому что сам Паскевич подписался1.
Однажды поутру З[авилейский] приехал ко мне и с большим смущением об’явил мне в тайне, что из Персии получено известие, что Грибоедов убит в народном возмущении. Он показывал заботу, как довести известие сие до сведения Прасковьи Николаевны и семейства Чавчавадзевых. Первой не было дома; по возвращении ей об’явили о смерти Грибоедова, и так как она к нему в особенности благоволила, то и огорчилась сим известием и несколько времени плакала. От Чавчавадзевых долго скрывали сие известие; но как оно уже сделалось гласным во всем городе, то Прасковья Николаевна рассудила за лучшее об’явить о сем матери и бабке Нины, дабы предупредить неосторожное и внезапное об’явление сего родственниками, грузинами, которые по нескромности своей могли сие сделать не вовремя и не впору, и через сие испугать женщин и наделать новой тревоги: ибо они Нину любили без памяти и, не имея настоящих сведений о положении ее в Персии, стали бы весьма беспокоиться. Об’явление Прасковьи Николаевны произвело много хлопот; слезы, вопли, стоны не умолкали в соседстве нашем, их было слышно из нашего дома; но к сему случаю были припасены лекаря и все нужные средства, и последствий никаких не было.
Мать Нины, княгиня Саломе, билась, кричала и с нетерпением переносила скорбь свою; но старуха княгиня Чавчавадзе проливала в тишине слезы, и горесть ее из’являлась молчанием и задумчивостью. Женщина сия была почтенная и всеми уважена1.
За сим желали иметь подробнейшие известия о смерти Грибоедова, но никто их не мог дать. Говорили, что приехал курьер, передавший бумагу, в коей было написано, что он убит или умерщвлен злодейски в Тегеране, в народном смятении, со всем посольством своим, и что спасся только один чиновник Мальцов. Между тем Нина оставалась в Тавризе; она была беременная, молодая женщина, едва супругою, взятая из дома родительского и оставшаяся одна среди народа безнравственного, разоренного. Сие могло точно всех беспокоить, и положение ее было истинно-бедственное. Отец ее был окружным начальником в Эривани; он, кажется, просился ехать в Персию, дабы вывезти дочь свою, но ему было дозволено только ехать до границы. Кажется, при Нине оставался двоюродный ее брат Роман Чавчавадзе; или, по крайней мере, он скоро приехал к ней и, сколько было у него сил, он старался ей помочь, заступая в то время место покровителя ее, и дело об убиении ее мужа было от нее скрыто до самого возвращения ее в Тифлис2.
Теперь должен я изложить, с известными мне подробностями, обстоятельства смерти Грибоедова, о коей столько говорят и имеются различные мнения. Иные утверждают, что он сам был виною своей смерти, что он не умел вести дел своих, что он через сие происшествие, причиненное совершенным отступлением
от правил, предписанных министерством, поставил нас снова в неприятные сношения с Персиею. Другие говорят, что он подал повод к возмущению через свое сластолюбие к женщинам. Наконец, иные ставят сему причиною слугу его Александра. Все же соглашаются с мнением, что Грибоедов, с редкими правилами и способностями, был не на своем месте, и сие последнее мнение самого Паскевича, который немного сожалел о несчастной погибели родственника своего (он был двоюродный графине), невзирая даже на важные услуги ему Грибоедовым оказанные, без коего он может быть не управился бы в 1826 и 1827 годах при всех кознях и ссорах, происходивших в Грузии во время смены главнокомандующих, и без помощи коего он бы не заключил столь выгодного с Персиею мира. Паскевич имел неудовольствия на Грибоедова, и причиною оных было то, что последний, будучи облечен званием министра двора нашего в Персии, должен был сообразоваться с данными ему из Петербурга наставлениями и не мог слепо следовать распоряжениям Паскевича. Прямые же сношения Грибоедова с министерством иностранных дел, минуя Паскевича, были неприятны последнему. Я же был совершенно противного мнения.
Не заблуждаясь насчет выхваленных многими добродетелей и правил Грибоедова, коих я никогда не находил увлекательными, я отдавал всегда полную справедливость его способностям и остаюсь уверенным, что Грибоедов в Персии был совершенно на своем месте, что он заменял нам там единым своим лицом двадцатитысячную армию, и что не найдется, может быть, в России человека, столь способного к занятию его места. Он был настойчив, знал обхождение, которое нужно было иметь с персиянами, дабы достичь своей цели, должен был вести себя и настойчиво относительно к англичанам, дабы обращать в нашу пользу персиян при доверенности, которую англичане имели в правлении персидском. Он был бескорыстен и умел порабощать умы, если не одними дарованиями и преимуществами своего ума, то твердостью. Едиными сими средствами Грибоедов мог поддержать то влияние, которое было произведено последними успехами оружия нашего между персиянами, которые на нас злобствовали и по легковерию своему готовы были сбросить с себя иго нашего влияния по случаю открытия Турецкой войны (а на нее были обращены почти все наши войска). Сими средствами мог он одолеть соревнование и зависть англичан. Он знал и чувствовал сие.
Поездка его в Тегеран для свидания с шахом вела его на ратоборство со всем царством Персидским. Если б он возвратился благополучно в Тавриз, то влияние наше в Персии надолго бы утвердилось; но в сем ратоборстве он погиб, и то перед от’ездом своим одержав полную победу. И никто не признал ни заслуг его, ни преданности своим обязанностям, ни полного и глубокого знания своего дела!
Грибоедов поехал из Тавриза в Тегеран, дабы видеться с шахом, а между тем и кончить некоторые дела по требованиям нашим на основании мирных договоров, которых персияне не хотели было исполнить. Он достиг цели своей, а между сими домогательствами ему удалось даже извлечь из гарема Аллаяр-хана (зятя шахского и первого министра его, первой особы в Персии, того самого, который был взят нами в плен при занятии Тавриза) двух армянок, взятых в плен в прошлую войну в наших границах, кои находились у него в заложницах и о возвращении коих, на основании мирных договоров, ходатайствовали, кажется, родители пленниц. Сие могло удасться только одному Грибоедову; ибо шах был вынужден отдать приказание зятю своему (нашему первому в Персии врагу) о возвращении их только по неотступной настойчивости и угрозам Грибоедова. Женщины сии были приведены к нему в дом, где и ожидали выезда посланника, дабы с ним следовать в Тавриз и оттуда на родину. Но озлобленный и ревнивый Аллаяр-хан не мог перенести ни оскорбления ему нанесенного, ни удаления своих наложниц. Он стал волновать народ и даже в мечетях приказал произносить на нас проклятья, дабы более остервенить против нас чернь. В народе было заметно волнение уже несколько дней. О сем предупреждали Грибоедова; но он пренебрегал слишком персиянами и, будучи убежден в преимуществе, которое он имел над ними, был уверен, что одного появления его, одного присутствия его будет достаточно, чтобы остановить толпу; притом же уклонение казалось ему мерою неприличною, и страх не мог им овладеть. Между тем волнение усиливалось, народ начинал толпиться на улицах и площадях и произносить оскорбительные для посланника нашего выражения и угрозы. Недоставало только искры, от коей бы пламя занялось, и искра сия вскоре показалась.
Слуга Грибоедова, Александр, молодой человек преизбалованный и коего он находил удовольствие возвышать против звания его, . . . человек сей стал приставать к армянкам,
содержащимся в доме. Женщины сии, может быть, и до сего уже недовольные тем, что их взяли из пышного гарема для возвращения в семейства, где бы они стали вести жизнь бедную и в нужде, оскорбленные ласками и приемами Александра1, выскочили в двери и, показавшись на улицу, стали кричать, что их бесчестят, насильничают. Что между ними было, того никто не знает; ибо свидетелей никого не осталось. Иные говорили, что будто сам Грибоедов хотел их прельстить; но сие невероятно, не потому, чтобы он не в состоянии был оказать неверность жене своей (я полагаю, что правила его не воспрепятствовали бы сему), но он бы не сделал сего никогда, дабы не навлечь порицания званию своему, особливо в тогдашних обстоятельствах и сношениях своих с Аллаяр-ханом.
Происшествия сии я рассказываю по тем сведениям, которые я мог изустно собрать; за точную же справедливость оных ручаться не могу.
В сие уже смутное время, армянин Рустам, молодец собою, тот самый, который первый схватил Аллаяр-хана (когда его в плен взяли при занятии Тавриза, что выше описано), шел по
городу и по обыкновению своему расталкивал с дерзостью толпившийся на базаре народ. Кажется, возвращаясь в дом посольства, Рустам был окружен разоренною толпою. Он стал защищаться, но был вмиг растерзан; его умертвили, волочили по улицам труп его и, рассекши оный на части, разметали.
Народ собрался с шумом перед домом посланника (который тогда из осторожности заперли) и требовали выдачи одного армянина, служившего при посольстве, как и Рустам, в должности курьера. После некоторых переговоров, не знаю кем веденных, армянина выдали, и он был в то же мгновение повешен перед домом посольства.
Сими жертвами народ не удовольствовался и, поощренный успехом, стал требовать самого посланника. Разбивши караул, стоявший у дома и состоявший из 16 или 20 персидских джанбазов с офицером, из коих 2 или 4 солдата было убито или ранено, народ вломился во двор и напал на людей, чиновников и казаков посольства, которые долгое время защищались, удерживая с упорством всякую дверь. При посольстве сем было около пятнадцати линейных казаков, молодцов, которые отличились в сем случае мужеством своим, побили много персиян, но все погибли, защищая начальника своего.
Мне говорили, что ужасный приступ сей продолжался более двух часов, и я удивляюсь, что Грибоедов сам тут не присутствовал. Но сие невероятно: не в подобном случае упал бы дух в сём человеке, мне довольно известном. Может быть, что сведения по сему предмету недостаточны, ибо почти никого свидетелей не осталось: почти все чиновники, слуги посольства и казаки были растерзаны, и в числе их и слуга Грибоедова Александр. Когда народ осадил уже и самую комнату, в коей находился Грибоедов, рассказывают, что он тогда отпер двери и стал у порога, показываясь народу, и с бодрым духом спросил, чего они хотят. Внезапное появление его, смелая осанка, выражение слов его (он знал хорошо по-персидски) остановили разоренную толпу, и дело пошло на об’яснения, как Грибоедов был неожиданно ударен и повержен без чувств на землю большим камнем, упадшим ему на голову. Персияне, встречая сильные затруднения к достижению посланника, еще с самого начала приступа, обратились к плоским крышам, по коим, добежав до покоя Грибоедова, разрыли землю, покрывавшую оный, разобрали слабый потолок и во время разговора пустили роковой камень
на голову Грибоедова. Надобно впрочем полагать, что встреча его с народом несколько украшена. Народ можно было остановить до кровопролития; но после долгого и упорного боя вряд ли присутствие лица, на коем возлегало все мщение народа, сколь бы оно ни осанисто было, могло бы остановить чернь. Надобно также думать, что Грибоедов не был до того времени в совершенном спокойствии, ибо вмиг нельзя разгородить и разобрать крышу, дабы пустить сквозь оную камень; все сие происходило вероятно в шуме и в драке.
Но с роковым камнем кончилось и все. Вслед за сим ударом последовал удар сабли, нанесенный Грибоедову одним из присутствующих персиян, и после того толпа уже бросилась на него, поразила многими ударами, и обезображенный труп Грибоедова выброшен на улицу. Дом посольства был разграблен, и лучшие вещи, принадлежавшие чиновникам, очутились вскоре у шаха, который не упустил и сего случая для удовлетворения своему корыстолюбию1.
Из хода сего дела заключают, что сам шах и все персидское правительство знало об умысле Аллаяр-хана и тайно допустило совершение злодеяния; полагали даже, что англичане, видя верх, который Грибоедов над ними начинал брать, из-под руки склоняли главных чиновников Персии к дерзкому поступку. Нельзя полагать, чтобы они хотели довести дело до такой степени; но весьма немудрено, что они желали какого-либо происшествия, последствием коего было уничижение нашего посланника и уменьшение его влияния.
Участие, принятое в сем смертоубийстве персидским правлением, ясно доказывается тем, что оно было заблаговременно предуведомлено о намерении народа, тогда еще, как Грибоедову советовали укрыться в смежной с квартирою его армянской церкви, из коей ему бы можно было уклониться и бежать из Тегерана, что он отверг с презрением. Люди, доведшие сие до сведения шаха и губернатора Тегерана (одного из сыновей его), будучи преданы нам, просили помощи и присылки войск для разогнания собравшегося народа; но шах и губернатор медлили,
вероятно с намерением, дабы допустить злодеяние, и отряды персидской пехоты пришли к квартире посланника, когда уже все было кончено. Иные полагают, что шах, знавши остервенение, в коем чернь находилась, опасался противуборствовать оной, дабы не обратить оную на себя. Впрочем, и войско равно ненавидело русских и вряд ли стало бы действовать против народа. После говорили мне, что и слухи об упорной защите посольского персидского караула были несправедливы, что караул сей, увидя решительность народа, тотчас разошелся, и что едва ли один из солдат оного был легко ранен; говорили даже, что и они приняли участие в разграблении посольского дома. Из всего посольства спасся тогда только один чиновник Мальцов. Иные говорят, что он при начале волнения побежал в шахский дворец, дабы просить от персидского правительства помощи; но, кажется, что дело иначе было. Мальцов укрылся в нужное место, как говорят, и средство к уклонению его было дано ему одним армянином, коему он предложил тогда находившиеся при нем 50 червонцев (ибо всякий опасался в такое время показать какое-либо участие к жертвам, дабы не быть открытым и чрез сие не пострадать). Мальцову удалось пробраться до шахского дворца, где его, как говорят, сперва спрятали в сундук, ибо сам шах боялся возмущения. Когда все затихло, он остался во дворце под покровительством самого шаха и, наконец, выехал в Грузию. Кроме его, кажется, не было очевидного вестника сему ужасному происшествию. Мальцова многие обвиняли в том, что он не погиб вместе с Грибоедовым. Не знаю, справедливо ли сие обвинение. Мальцов был гражданский, а не военный чиновник и не вооруженный, секретарь посольства, а не конвойный; целью посольства были не военные действия, где бы его обязанность была умереть при начальнике. На них напали врасплох, резали безоружных, и я не вижу, почему Мальцов неправ в том, что он нашел средство спасти себя, и может быть еще с надеждою прислать помощи к осажденному посольскому дому. Впрочем, он, кажется, по домашним связям своим был близок к Грибоедову, и о поведении его подробнее вышеизложенного я не знаю. Может быть и есть обстоятельства мне неизвестные, которые в общем мнении обвиняют его поступок. Я его лично не знаю, едва видел его в Тифлисе; в пользу его не было ничего особенного слышно.
Нина Грибоедова была в Тавризе и беременная во время сего происшествия, которое от нее скрыли. Двоюродный брат ее Роман Чавчавадзе, по совету англичан, пребывающих в Тавризе, из коих поверенный в делах имел весьма умную и приятную жену, перевез ее к ним в дом. Мера сия была тем нужнее, что в Тавризе оказывалось беспокойство в народе, в коем воспрянула придавленная злоба к русским по получении известия о случившемся в Тегеране. Не менее того Аббас-Мирза старался показать большое огорчение и даже наложил на несколько дней траур.
Нину уверяли, что ее перевезли к англичанам по воле мужа ее, которого дела задерживают на некоторое время еще в Тегеране; наконец, когда списались с Тифлисом, ей сказали, что ее везут в Тифлис также по воле мужа ее, который ее в дороге нагонит. Верила ли сему несчастная вдова, того не знаю; но не полагаю, ибо она не получала от мужа писем. Ее привезли с большою опасностью до границ наших, где ее, кажется, встретил отец и привез в Тифлис. Ее остановили в карантине, куда к ней ездили для свидания родственники. Она была молчалива, мало упоминала в речах о муже и, казалось, догадывалась об участи своей.
Но Нина претерпела все сии бедствия в состоянии беременности, коей было уже 7 или 8 месяцев, когда Прасковья Николаевна, опасаясь, дабы до нее не дошло известие о погибели мужа стороннею дорогою и с неосторожностью, решилась об’явить ей о сем. Нина не металась в отчаянии; она плакала, но тихо и скрывала грусть свою. Печаль же на нее столько подействовала, что она чрез несколько дней после того выкинула еще живого ребенка, который через несколько часов умер. Тут стали обвинять в сем Прасковью Николаевну, коей участие и принятое на себя звание возвестительницы столь печального происшествия могли только честь делать; ибо подобные порученности бывают самые неприятные. В число обвинителей замешался и Мартиненго, человек, которого она всегда отличала; он находил, что ребенок мог жить и что он умер от нераспорядительности Прасковьи Николаевны. Сие произвело несколько разговора в городе, но тем и кончилось.
Правительство наше требовало выдачи тела Грибоедова, дабы похоронить оное с честью. То ли самое тело, или другое какое-либо, было привезено в Тифлис? Открывавшие гроб в
Джелал-Оглинском карантине говорили мне, что оно было очень обезображено, порублено во многих местах и, кажется, без одной руки; но сие уже было летом следующего 1829 года. Труп сей похоронили с надлежащею честью у монастыря Святого Давыда, построенного на горе за домом нашим. Вдова и все родственники ее, а также и наши, провожали гроб; многочисленная толпа тифлисских жителей, собравшаяся без приглашения, следовала за печальным шествием. Там построили арку, которая видна из всего города. Грибоедов любил картинное место сие и часто говаривал, что ему там бы хотелось быть похоронену.
Нина осталась печальна, скрывала грусть свою и тем более вселяла к себе участия, З[авилейский] искал руки ее; но он заблуждался, когда надеялся, что добродетельная Нина могла выйти за него замуж1.
Однако, правительство наше не могло оставить нанесенное оному поругание в убиении посланника без внимания. Персидский двор уверял, что несчастное событие сие приключилось без ведома оного, и что виновные будут наказаны; а между тем, по получаемым сведениям известно было, что персидские войска собирались около Тавриза. Многие говорили, что мера сия была только предостерегательная на случай вторжения наших войск, но не менее того брожение умов в Персии было чрезвычайное: хотели возобновить войну с Россиею, полагаясь на то, что мы были заняты войною с Турцией. И в самом деле, обстоятельства наши в Грузии в таком разе были бы несколько затруднительны; но с обеих сторон остались в покое. Нас точно занимала Турецкая война, а персияне еще не забыли прошедших побед наших. Мы требовали выдачи виновников в смерти нашего посланника; нам обещались их выдать, но не выдавали и, наконец, не выдали. Требовали, чтобы, по крайней мере, сын Аббас-Мирзы, Хозрой-Мирза приехал для испрошения у государя прощения. И в том медлили, боялись его выслать в Россию; наконец, его прислали в Тифлис уже в мае месяце 1829 года, без всяких наставлений от персидского двора и даже без позволения далее ехать. Паскевич отправил его почти насильно в Россию, против воли отца, а особливо деда его, с коими все велись переговоры по предмету
сему, и, наконец, Хозрой-Мирза получил уже в Царском Селе наставления от шаха относительно порученности, на него возлагаемой.
Всем известен прием, оказанный ему в Петербурге, речь его, сочиненная, вероятно, в иностранной коллегии нашей и напечатанная в ведомостях, в коей он просил от имени родителей своих прощения за убиение нашего посланника. Ему удалось еще, кроме того, выпросить у государя прощения двух куруров из трех, наложенных в дань с Персии при заключении мира, что составляло 20.000.000 уступки с 80.000.000, о чем и прежде персидский двор настоятельно просил, но чего Грибоедов не хотел уступить, и это было также причиною злобы на него персиян, которые, как к концу дела оказалось, достигли своей цели убиением посланника нашего. Причиною сего была, без сомнения, Турецкая война, коею персияне искусно воспользовались тогда; но можно ли полагать, чтобы злодеяние их, коварство и нарушение всех прав народных остались впоследствии без наказания со стороны России?
Хозрой-Мирза возвратился из Петербурга в Тифлис уже в конце 1829 или в начале 1830 года: он не нашел у Паскевича приема, подобного тому, который ему оказывали в России: у нас лучше знали цену ему. Прихоти его не были всегда уважены, и он имел более одного раза случай вспомнить и о молодости своей и постичь ничтожность двора Персидского; но вряд ли он мог сие уразуметь. Когда он приехал на границу Персии, его встретили еще с меньшею пышностью; он сожалел о России, где на него потратили миллионы.
1 Другую версию о поведении Якубовича см. ниже в рассказах Бегичева, записанных Д. А. Смирновым.
2 А. И. Якубович познакомился с Грибоедовым, возможно, еще в дни своего отрочества, так как они вместе воспитывались в московском университетском благородном пансионе. Свою службу он начал в лейб-гвардии уланском полку и жил в Петербурге, принимая деятельное участие в театральных шалостях, интригах и других удальских похождениях тогдашней золотой молодежи, в кругу которой был известен, как «отчаянный кутила и дуэлист». Якубович действительно пострадал за участие в дуэли Шереметева с Завадовским и пострадал больше всех, так как Завадовский был выслан на некоторое время за границу, Грибоедов остался безнаказанным, а Якубович был сослан на Кавказ. В дневнике Н. Н. Муравьева под 15 февраля 1818 года записано следующее: «После обеда приехал из Петербурга фельд’егерь и не привез ничего занимательного для нас. Он привез с собой одного лейб-уланского корнета Якубовича, которого перевели тем же чином в нижегородский драгунский полк за то, что он был секундантом кавалергардского офицера Шереметева на поединке его с Завадовским. Шереметев был убит, Завадовского простили, а секунданта наказали» («Русский Архив» 1886 г., № 11, стр. 297).
1 Семен Иванович Мазарович — сын венецианского адмирала Джованни Мазаровича. По образованию — доктор медицины и, начиная с 1809 года, работал по своей специальности в черноморской дивизии на Средиземном море у контр-адмирала Салтанова, затем — в Яссах в посольстве сенатора Красно-Милашевича и в штабе князя Голенищева-Кутузова в Бессарабии. В 1816 году был определен доктором при чрезвычайном посольстве в Персию А. П. Ермолова; 6 июля 1818 года по представлению Ермолова был назначен поверенным в делах в Персии и в этой должности прослужил до 26 января 1826 года; Грибоедов тогда числился при нем секретарем, а в 1828 году заместил Мазаровича в Персии в звании полномочного министра. О нем см. «Архив Раевских» под ред. Б. Л. Модзалевского, т. I, стр. 290—291. — В Государственный Исторический Музей недавно поступила связка писем Грибоедова к Мазаровичу (числом шесть).
3 Это, несомненно, иностранец Castello. О нем в дневнике Муравьева от осени 1828 года, когда Castello умер, сохранилась подробнейшая запись: «Француз сей был не без способностей, имел ум предприимчивый, но весь парил в одном воображении. Он прибыл из Франции еще при А. П. Ермолове и выхлопотал себе в министерстве финансов в Петербурге позволение сучить шелк в Грузии. Обольстивши правительство обещаниями о несметных выгодах, которые он хотел доставить, он получил большие привилегии и суммы на заведение свое, вовлек в подобные же суммы и богатых помещиков в России. » («Русский Архив» 1894 г., № 1, стр. 37). В письме Грибоедова к П. Н. Ахвердовой от 3 июля 1827 года имеется привет « à m-me Ñàstello ».
1 Сослуживец Грибоедова по русской миссии в Персии, близкий его знакомый, впоследствии генеральный консул в Тавризе. В отношении министра иностранных дел графа К. В. Нессельроде к А. П. Ермолову от 16 июля 1818 года было извещено, что «поверенным в делах Персии назначается Мазарович, секретарем при нем Грибоедов и канцелярским служителем Амбургер» («Русская Старина» 1874 г., № 10, стр. 278). Сохранилось четыре письма Грибоедова к А. М. Амбургеру.
1 Говорят, будто Якубович воскликнул: «По крайней мере, играть перестанешь!». Грибоедов лишился одного пальца на руке, что не мешало ему попрежнему отлично играть на фортепианах. Н. Н. Муравьев был тоже пианист. (Примечание П. Бартенева).
2 В своих воспоминаниях, напечатанных в «Русском Архиве» (1885 г., № 3, стр. 359), Л. Ф. Львов писал, что Якубович на дуэли с Грибоедовым «получил страшную свою на лбу рану». Это было опровергнуто И. В. Ефимовым в «Заметках на воспоминания Л. Ф. Львова — «Русский Архив» 1885 г., № 12, стр. 559.
3 О, несправедливая судьба!
1 С. А. Наумов — дежурный штаб-офицер в посольстве Ермолова.
1 И. А. Вельяминов — начальник дивизии в Грузии.
2 Офицеры — члены посольства Ермолова.
3 Начальник штаба отдельного кавказского корпуса, брат предыдущего.
4 Офицеры кавказского корпуса.
5 Генерал-майор П. Н. Ермолов — двоюродный брат главнокомандующего, долго служивший на Кавказе; по чину — маршал посольства. — В 1898 году в «Русской Старине» было опубликовано несколько писем к нему А. П. Ермолова и А. А. Вельяминова.
6 Полицмейстером тогда состоял чиновник посольства — подпоручик С. Ф. Федоров.
7 Генерал-майор Р. И. Фон-дер-Ховен, назначенный в 1818 году и. д. тифлисского гражданского губернатора.
1 Прапорщик граф Н. А. Самойлов — «кавалер посольства» Ермолова и офицер нижегородского драгунского полка на Кавказе Розен, разжалованный из кавалергардского полка за поединок.
2 Офицер Н. А. Каховский, родственник А. П. Ермолова, числившийся в егерском полку. Сохранилось четыре письма к нему Грибоедова.
3 Капитан А. И. Краузе — казначей посольства.
4 Офицер, вскоре назначенный обер-квартирмейстером отдельного грузинского корпуса.
1 Это «описание» до наших дней не сохранилось.
2 Это, несомненно, правитель канцелярии посольства Ермолова — А. И. Рыхлевский. Сохранилось четыре письма к нему Грибоедова, в печати неизвестные; два — хранятся в Гос. Театральном Музее им, А. А. Бахрушина, и два — в Гос. Историческом Музее.
1 Второй сын шаха Фет-Али из династии Каджаров, назначенный в 1816 году наследником персидского престола.
1 Поручик Д. А. Бобарыкин — школьный товарищ Муравьева, «кавалер посольства».
1 Сохранилась записка Грибоедова к Н. Н. Похвисневу с просьбой о присылке книг.
1 Это — так называемое учение гомеопатов.
2 До наших дней ни один документ из переписки Грибоедова с Муравьевым не сохранился.
3 В печати эта записка неизвестна.
1 «Путешествие в Туркмению и Хиву в 1819 и 1820 годах гвардии Г. Штаба капитана Николая Муравьева, посланного в сии страны для переговоров. М. в тип. Семена, 1822 г.». В двух частях.
1 Здесь стоял карабинерный полк, которым командовал Н. Н. Муравьев.
1 Прасковья Николаевна Ахвердова — вдова начальника кавказской артиллерии. Это была выдающаяся женщина: получила в Петербурге хорошее образование, с успехом занималась живописью, копировала картины в Эрмитаже, любила литературу и музыку. Овдовев в 1818 г., осталась жить в Тифлисе.
2 Н. А. Чавчавадзе родилась 4 ноября 1812 года, значит, в это время ей было немногим более 14 лет. Но тем не менее в это время в нее были влюблены некоторые кавказские военные деятели. Сильно увлечен Ниной Александровной был С. Н. Ермолов. Влюблен был в нее без ума и Н. Д. Синявин: «Видел ли я что-нибудь подобное? Нет, в мире не может существовать такого совершенства! Красота, сердце, чувства, неиз’яснимая доброта! Как умна-то! Божусь, никто с ней не сравнится!» — писал о ней тогда Синявин в письме Б. Г. Чиляеву; см. Б. Л. Модзалевский. «Кавказ николаевского времени в письмах его военных деятелей». (Из архива Б. Г. Чиляева) — «Русский Архив» 1904 г., № 1, стр. 115—174.
3 С. Ф. Ахвердова — падчерица Прасковьи Николаевны, находившаяся у ней на воспитании. Ее опекуном был отец Нины Александровны — кн. А. Г. Чавчавадзе.
1 Грибоедов был в большой дружбе с П. Н. Ахвердовой; до наших дней сохранилось 9 писем Грибоедова к ней за период 1827-1828 г.г.
1 Грибоедов, несомненно, хорошо относился к Муравьеву. Это можно хотя бы видеть из того, что, когда Муравьев однажды — 29 июня 1827 года — попал со своим отрядом под Аббас-Абадом в перестрелку, то Грибоедов предлагал ему помочь: «Паскевич, увидя из окон своих перестрелку, засуетился и рассердился. Грибоедов, который в то время был при нем, и другие его окружающие, советовали ему послать ко мне подкрепление, говоря, что я могу погибнуть с горстью людей против такого сильного неприятеля». «Пускай он погибает!» — отвечал Паскевич. «Если он расторопный офицер, то сам отделается; если же он плох, то мне не нужен, и пускай погибает!» — «Русский Архив» 1889 г., № 11, стр. 308.
2 Свадьба Грибоедова состоялась 22 августа 1828 г., предложение же было им сделано еще 16 июля.
1 Поручик И. О. Курганов — армянин, выдвинувшийся при Паскевиче. Ермолов называл его Ванькой-Каином (см. «Русский Архив» 1894 г. № 1, стр. 11 и 1906 г., № 9, стр. 65). В тифлисской уличной песне, сохранившейся еще к концу прошлого столетия, были такие строки: «Праздник наступил и год обновился. Паскевич приехал, Иван Курганов назначен ад’ютантом и прозвали его Каином. Жаль, что Ермолов сменился, — у народа сердце испортилось» (см. Е. Г. Вейденбаум. «Ермолов и Паскевич» в сборнике «Кавказские этюды», Тифлис, 1901 г., стр. 231). О нем см. также Кн. Щербатов. Кн. Паскевич-Эриванский, т. II, стр. 99.
2 Сам Грибоедов называет Курганова подлецом (в письме к Паскевичу от 16 марта 1828 г. — «Дела и дни» 1921 г., № 2, стр. 63). — В первом томе «Архива Раевских» (стр. 356—358) опубликовано письмо Курганова к Н. Н. Раевскому от 7 ноября 1827 г. из Тавриза, где он говорит о Грибоедове.
3 Далее в подлиннике четыре строки зачеркнуты и разобрать их невозможно. (Примечание П. Бартенева).
4 Родственница Муравьева — посаженная мать на свадьбе.
1 Опекун Софии Ахвердовой — посаженный отец на свадьбе.
2 Отрешение Ермолова от должности и назначение на его место Паскевича произошло 29 марта 1827 г.; см. «Записки А. П. Ермолова », часть 2-я. Приложение, стр. 247.
3 1 апреля 1827 г. начальником штаба кавказского корпуса был назначен генерал-лейтенант А. И. Красовский, но уже 17 июня он был освобожден от должности.
4 Генерал-лейтенант граф Н. П. Сухтелен, назначенный после Красовского начальником штаба кавказского корпуса.
1 Граф И. И. Дибич — генерал-ад’ютант, начальник главного штаба; в связи с несогласиями, возникшими в Грузии между А. П. Ермоловым и И. Ф. Паскевичем, Дибич был послан Николаем I в 1827 г. на Кавказ для производства следствия.
1 Эта «реляция» Грибедова до наших дней не сохранилась.
3 Генерал-лейтенант И. М. Сипягин, в то время тифлисский военный губернатор.
1 Интересно отметить, что в дневнике своем Паскевич неоднократно выказывал свою недоверчивость к боеспособности кавказских войск: «Не знаю, как я пойду с этими первобытными»; «Не знаю, что я с ними в день сражения сделаю»; «Сохрани бог быть с такими войсками в первый раз в деле»; см. Кн. Щербатов. «Генерал-фельдмаршал князь Паскевич, его жизнь и деятельность», т. II, приложение.
1 Об отношениях Муравьева с Паскевичем см. еще «Русский Архив» 1883 г., № 3, стр. 399.
2 Грибоедов получил звание министра-резидента в Персии.
3 Об этом подробности см. ниже в воспоминаниях Давыдова и Шимановского.
1 За два дня до приезда в Ахалкалаки — 22 июля — Грибоедов в Гумри получил письмо от А. Г. Чавчавадзе с согласием на брак («Русская Старина» 1874 г., № 10, стр. 296).
1 В записках В. Н. Григорьева, хранящихся в Ленинградской Публичной библиотеке, имеется несколько сведений о тесте Грибоедова, кн. А. Г. Чавчавадзе. По службе Григорьеву приходилось раз’езжать по Кавказу, и в одну из этих поездок ему пришлось побывать и в поместьи кн. Чавчавадзе — Цинондалях: «В поместьи кн. Чавчавадзе, Цинондалях, я не застал владельца; он был тогда в действующем отряде под Акалцихам. (Кстати сказать здесь, что кн. Александр Иванович (Герсеванович) Чавчавадзе был генерал-майор в русской службе, воспитывался в пажеском корпусе, человек весьма приятного обращения, что редкость между грузинами). Старшая дочь его вышла впоследствии замуж за посланника нашего в Персии — Грибоедова, а младшая — за владетельного князя Мингрелии — Дадиани. Лет через двадцать после того времени, о котором пишу теперь, сын его (я знал его еще пажем) сделался особенно известен пленом своим у чеченцев. Несмотря на отсутствие хозяина, в Цинондалях приняли меня также радушно. Я провел в этом имении несколько дней, и, когда кончал свои занятия по вечерам, любил сидеть в виноградной беседке, из которой открывался прекрасный вид на Кахетинскую долину и на стоящие за ней спиною снежные горы Кавказа. В этой беседке, не вставая с места, можно с’есть несколько фунтов самого превосходного винограда, который, можно сказать, со всех сторон охватывает вас своими гроздьями». — О кн. Чавчавадзе см. статью М. Я. Алавердянц «Тесть А. С. Грибоедова» — «Русская Старина» 1910 г., № 9, а также статью Н. П. Павлова-Сильванского в «Русском биографическом словаре» (1905 г.). — О пленении его сына см. в книжке Е. А. Вердеревского: «Кавказские пленницы, или плен у Шамиля семейств кн. Орбельяни и кн. Чавчавадзе», П. 1856 г.
1 Через день после венчания — 24 августа — у Грибоедова был обед на сто человек; см. А. П. Берже. «А. С. Грибоедов в Персии и на Кавказе» — «Русская Старина» 1874 г., № 10, стр. 291.
2 Это, несомненно, письмо Грибоедова к Булгарину от 24 июля 1828 г., напечатанное в его «Воспоминаниях» в «Сыне Отечества» 1830 г. (см. выше). Соредактором этого журнала и был Греч.
3 Эта часть писалась в первой половине 1832 года в Житомире.
4 Это, несомненно, П. Д. Завилейский, начальник казенной экспедиции верховного правителя Грузии; 19 июля 1829 года он был назначен гражданским губернатором. В этой же главе Муравьев пишет о нем: «З(авилейский), губернатор тифлисский, человек скаредный, лживый, прямой шут, шарлатан, и, как говорят, еще плут, был ею (П. Н. Ахвердовой) также хорошо принят, потому что Грибоедов показывал ему дружбу . . . . . . В числе сих (тифлисских чиновников) негодяев находился и З(авилейский), которого Паскевич возвел уже в степень губернатора. Самые неосновательные поступки и распоряжения знаменовали его правление, когда он касался оного; впрочем, он мало им и занимался, предпочитая проводить время свое без всякого дела у Паскевича, где он более вкрадывался в доверенность его»; см. «Русский Архив» 1894 г., № 1, стр. 34 и 37.
1 17 июля 1828 г. Грибоедов и Завилейский подписали Вступление или об’яснительную записку к проекту устава Российской Закавказской компании»; напечатана она в статье А. П. Мальчинского «Неизданная записка Грибоедова» — «Русский Вестник» 1891 г., №9, стр. 3—17.
2 «Завтрашний день пойдет от меня и Завилейского к в(ашему) с(иятельству) План компании и Записка на благосклонное ваше рассмотрение. Во время болезни, я имел довольно трезвости рассудка и досуга, чтобы осмыслить этот предмет со всех сторон» — писал Грибоедов к Паскевичу 6 сентября 1828 г.; см. Е. Некрасова «Неизданные письма А. С. Грибоедова» — «Дела и дни» 1921 г., кн. 2, стр. 71.
1 Между прочим, у Завилейского хранились автографы Грибоедова. Так, Пустынник Горетубанский (Д. Е. Зубарев) в «Письме к издателю» в «Тифлисских Ведомостях» 1832 г., № 3, стр. 69—72 опубликовал варианты одной рукописи «Горя от ума», «сообщенные одним знакомым, получившим их от его превосходительства П. Д. Завилейского, пользовавшегося дружбой покойного автора». Автор статьи ссылается на то, что «поправки писаны рукою автора и найдены в его бумагах».
1 Интересный отзыв о Завилейском сохранился в «Воспоминаниях» Сафоновича: «Я познакомился, сблизился и подружился с Завилейским. Последнее время своей службы он был председателем Грузинской Казенной палаты, а потом тифлисским губернатором. В этой должности ему не повезло: у него оказалось много людей, ему не доброжелательствовавших, его сменили и даже затеяли ему неприятное дело, от которого он с трудом отделался. Он был женат на дочери красноярского золотопромышленника Попова, поэтому имел хорошее состояние». См. Русский Архив» 1903 г., т. II, стр. 503.
1 Узнав о смерти Грибоедова, Саломе Чавчавадзе написала дочери, чтобы она приехала к ней. В письме тифлисского купца Егора Бежоева, к Давыду Тамамшеву от 13 февраля 1829 г., сохранившемся в копии в архиве Паскевича, читаем: «Когда я вручил министерше Грибоедовой письмо от княгини, она приняла его с радостью и начала читать, в коем написано было, чтобы Нина Александровна просила позволения от Александра Сергеевича на несколько время приехать в Тифлис; при чтении сих слов, она, Грибоедова, начала плакать, хотя она об смерти его точно неизвещена, но по всему догадывается»; см. «Дела и дни» 1921 г., кн. 2, стр. 76.
2 В донесении гр. Паскевичу от 8 февраля Амбургер писал: «Супругу министра (Н. А. Грибоедову) я успел уговорить, не открывая ей о несчастной участи ее супруга, следовать в Тифлис, к чему не мало способствовало полученное ею письмо от своей родительницы, которая ее приглашает к себе»; см. «Русская Старина» 1872 г., № 8, стр. 17.
1 Почти подобную же версию о роли Александра слышал в 1829 г. А. Н. Вульф, находившийся тогда на войне с Турцией и записавший в свой дневник следующее: «Как жаль, что Грибоедов так несчастливо окончил свое только что открывшееся поприще гражданской службы. Как литератор, он останется всегда в числе отличнейших талантов нынешнего времени. Его «Горе от ума» всегда будет иметь цену верной и живой картины нравов своего времени. — Вот как я слышал подробности и причины возмущения народного в Тегеране, жертвою которого он сделался вместе со всею свитою нашего посольства. — Для решения какого-то процесса приведены были несколько женщин перс(идских) в дом нашей миссии и должны были там остаться под стражей. Гриб(оедова) человек, вероятно, ловелас петербургских камердинеров, желал воспользоваться этим случаем. Несогласие азиаток привело его к насилию. Народ, возбуждаемый каким-то недовольным Эмиром за то, что их жены будут судимы русскими, услышал их крик о помощи, бросился в дом, несмотря на сопротивление нашей почетной стражи, и, прежде нежели подоспели войска шаха, перерезал всех, кого там ни встретил. Из всех чиновников посольства нашего спасся один только Манзи (И. С. Мальцов), уехавший в этот день на охоту из города. Так сделался человек, одаренный отличным умом и способностями, жертвою беспорядочной жизни, которую он прежде вел. У другого господина, верно, слуга не осмелился бы сделать подобного своевольства». См. А. Н. Вульф. Дневники. Редакция П. Е. Щеголева. Примечания И. С. Зильберштейна. «Круг», 1929 г.
1 В письме М. П. Погодина из Москвы к С. П. Шевыреву от 11 сентября 1829 года читаем: «После несчастного Грибоедова должно остаться много сочинений, но не знают, где они». — См. «Письма М. П. Погодина к С. П. Шевыреву». С предисловием и об’яснениями Н. П. Барсукова — «Русский Архив» 1882 г., № 5, стр. 104.
1 Н. А. Грибоедова осталась верна памяти своего мужа; много раз ей представлялись случаи вступить в новый брак, но она всем отказывала. Она скончалась в 1857 году и похоронена рядом с прахом Грибоедова.
2 В. К. Кюхельбекер (1797—1846), известный литератор и декабрист, товарищ по лицею и приятель Пушкина. С Грибоедовым его соединяла дружба не меньшая, чем с Пушкиным. Познакомились они, вероятно, еще в 1817 г., когда вместе с Пушкиным поступили в коллегию иностранных дел. Затем Грибоедов уехал на Восток, а Кюхельбекер в 1821 г. за границу. В этом же году Кюхельбекер попал в Тифлис на службу к Ермолову и встретился там с Грибоедовым. Здесь они очень сблизились; Грибоедов делился с новым другом своими литературными замыслами и на глазах Кюхельбекера происходила работа над первоначальным текстом «Горя от ума». В мае 1822 г., после ссоры и дуэли с Похвисневым, Кюхельбекер должен был покинуть Кавказ. — См. А. В. Безродный. В. К. Кюхельбекер и А. С. Грибоедов — «Исторический Вестник» 1902 г., № 5.
1 Подпоручик Мадатов — переводчик в посольстве Ермолова.
2 В марте этого же 1822 года Грибоедов, поселившись в Тифлисе, купил у уезжавшего Н. Н. Муравьева, назначенного командиром эриванского полка, фортепиано, почти единственное в городе («Русская Старина» 1874 г., т. XI, стр. 289). — Позже Грибоедов это фортепиано уступил Муравьеву же: «Имея прекрасное фортепиано, купленное у Грибоедова, я посвящаю на оное в первые пять дней недели по одному часу в день» — записано в дневнике Н. Н. Муравьева от 27 января 1824 г. («Русский Архив» 1888 г., №10, стр. 194).
1 От первого брака Федора Исаевича Ахвердова († 1818) с княжною Юстипиани. (Примечание П. Бартенева).
2 «Грека, рыцаря промышленности, выгнали от Ахвердовых, и я при этом остракизме был очень деятелен», — писал Грибоедов 1 октября 1822 года из Тифлиса В. К. Кюхельбекеру. О Севиньи см. также Ф. Н. Виницкий. Рассказы из былого времени. «Чтения в обществе истории и древностей российских» 1874 г., кн. 1, стр. 87—89.
3 Вильям Егорович Севиньи, находясь в 1824 году в Москве, выманил у богатого грека Зосимы драгоценную жемчужину «Pellegnia». За мошенничество был приговорен к ссылке, но по высочайшей конфирмации в 1826 году изгнан из России.
Источник