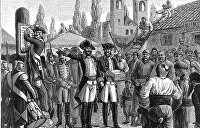Кто был палачом белорусов — Муравьёв или Калиновский?
При этом польский мятежник, предводитель восстания на территории Белоруссии и Литвы Винцент Константы Калиновский (в начале XX века переименованный в «Кастуся») канонизирован той же белорусской интеллигенцией в лике мученика и борца со «москалями». Даже президент Александр Лукашенко в прошлом году назвал Калиновского «нашим человеком нашего государства». Мастер-класс по интеграции Украины. Как на бывших польских землях устанавливалась российская власть
Сложно сказать, что «нашего» нашёл Лукашенко в Калиновском. Лежащие на поверхности факты свидетельствуют о том, что «Кастусь» — поляк до мозга костей.
1) Целью восстания было восстановление польского государства в границах 1772 года, для Белой Руси это означало тотальную полонизацию и окатоличивание.
2) Все повстанцы, в том числе и Калиновский, давали присягу следующего содержания: «Присягаем во имя Пресвятой Троицы и клянёмся на ранах Христа, что нашей родине Польше будем служить верно и исполнять, во имя того же отечества Польши, все приказания, предписанные нам начальниками…»
3) Калиновский все свои приказы заканчивал лозунгом «Boże zbaw Polskę».
4) Обращаясь к жителям Белоруссии, Калиновский писал в «Письме Яськи-Господаря из-под Вильны к мужикам земли польской»: «…разве ж мы, децюки, сидеть будем? Мы, что живём на земле польской, что едим хлеб польский, мы, поляки из веков вечных».
5) Винцент Константы родился на территории современной Польши, в Мостовлянах. Род Калиновских происходил из Мазовии (центр этого региона — Варшава).
На эти факты белорусские фальсификаторы истории закрываются глаза. Для них «белорусскость» Калиновского — предмет веры, а вера, как известно, слепа и не требует научных доказательств. Польские паны и русская власть. Как замиряли Правобережную Украину
Созданием вокруг Калиновского ореола святости местечковые националисты пытаются возвести перед белорусами стену, лишающую их возможности объективно взглянуть не только на национальную принадлежность Винцента Константы, но и на те методы, к которым прибегал Калиновский для достижения «народного счастья».
Историки, объективно и беспристрастно изучающие польское восстание и его подавление, считают, что развязанный повстанцами террор против мирного населения Белоруссии позволяет рассматривать в качестве карателя белорусского народа именно Калиновского, а не графа Муравьёва, как пытаются доказать самостийные идеологи.
Так кто же на самом деле был вешателем — Муравьёв или Калиновский?
Для начала разберёмся с тем, каким образом жупел «вешателя» навесили на графа Муравьёва. Происхождение данного прозвища связано с известным историческим анекдотом.
В 1830-х годах Муравьёв занимал пост гродненского губернатора, и на одном из публичных мероприятий местные польские шляхтичи, желая поддеть Михаила Николаевича, спросили у него: «Не родственник ли вы того Муравьёва, которого повесили за мятеж против государя?» (имелся в виду Сергей Иванович Муравьёв-Апостол, приговорённый в 1826 году к высшей мере наказания за организацию декабристского мятежа). Известный своим остроумием Муравьёв ответил: «Я не из тех Муравьёвых, которых вешают, я — из тех, которые сами вешают». За что сражалась польская шляхта на Украине и почему украинские крестьяне поддержали русские власти
После этого случая все недоброжелатели графа стали именовать его «вешателем».
Как видим, появление прозвища «вешатель» никоим образом не связано с подавлением Муравьёвым польского мятежа 1863 года. Иначе и быть не могло, поскольку предпринятые графом меры по усмирению и наказанию бунтующих поляков нельзя назвать чрезмерно жёсткими, учитывая то, как обычно подавлялись восстания в XIX столетии.
Всего в Северо-Западном крае было казнено 128 мятежников, и, как отмечает белорусский историк Александр Бендин, лишь 16% участников восстания были подвергнуты различного рода уголовным наказаниям.
Данные цифры не идут ни в какое сравнение с практикой подавления мятежей в других странах. Так, во Франции в ходе подавления Парижской коммуны правительственными войсками было убито 30 тысяч человек. Чудовищную жестокость проявили англичане при подавлении восстания сипаев в Индии: одного подозрения в симпатии к повстанцам было достаточно для того, чтобы стереть с лица земли целые деревни.
Необходимо подчеркнуть, что все казнённые польские мятежники были приговорены к высшей мере наказания судом, который установил в их действиях признаки тяжких преступлений против личности и государства. Исходя из этого, повешенных повстанцев нельзя назвать безвинными жертвами — все они были опасными преступниками, которые отказались от данной ими присяги на верность русскому императору и посягнули на территориальную целостность Российской империи.
А вот под каток террора, развязанного мятежниками, попали действительно ни в чём не повинные люди: крестьяне, православные священники, чиновники, не поддержавшие восстание дворяне. Отряды, общее руководство которыми в Северо-Западном крае осуществлял Винцент Калиновский, назывались «кинжальщиками» и — особо подчеркнём — «жандармами-вешателями» (по излюбленным орудиям казни). Пусть корсиканец, лишь бы не москаль. Война 1812 г. для Белоруссии — гражданская или отечественная?
Жестокость «жандармов-вешателей» возрастала по мере того, как они осознавали, что белорусы встали на сторону правительства и не желают поддерживать повстанцев. В «Приказе-воззвании Виленского повстанческого центра к народам Литвы и Белоруссии» от 11 июня 1863 года Калиновский в бешенстве писал:
«За вашу долю кровь проливают справедливые люди, а вы, как те Каины и Иуды Искариотские, добрых братьев продавали врагам вашим! Но польское правительство спрашивает вас, по какому вы праву смели помогать москалю в нечистом деле?! Где у вас был разум, где у вас была правда? Разве вспомнили вы о страшном суде Божьем? Вы скажете, что делали это поневоле, но мы люди вольные, нет у нас неволи, а кто хочет неволи московской — тому дадим виселицу на суку».
Об отношении белорусов к польскому мятежу красноречиво свидетельствуют письма на имя императора Александра II, которые приходили со всех концов Белоруссии. В них белорусы заверяли императора в своих верноподданнических чувствах и стремлении защищать свой край от польских инсургентов.
«Августейший монарх! — писали представители Витебского городского общества. — Необузданные свои притязания, попирающие всякую правду, поляки простерли посягательством своим и на белорусский край, исконное достояние России. И здесь, к прискорбию нашему, нашлась горсть дерзких, возмечтавших заявить Польшу в Белоруссии и смутить общественное спокойствие; но они горько ошиблись. Народ доказал, что он истинно русский.
Да сохранит нас Всевышний от беспорядка и бедствий войны! Но если Провидением суждено нам испытать их, верь, Государь, что мы никому не уступим в благоговейной преданности и любви к тебе, Царь, и к славной Твоим благодушным царствованием России и не остановимся ни перед какими жертвами для охранения чести и целостности твоей империи, дорого нашего Отечества».
В белорусских губерниях из числа местных крестьян были сформированы сельские вооружённые караулы, которые задерживали мятежников и передавали их в руки законных властей. Караулы оказали существенную помощь правительственным войскам в подавлении мятежа, и сотни белорусских крестьян были удостоены высоких государственных наград. «Полонез» Огинского от «Песняров»: польские восстания и место в них белорусов
Полковник А.Д. Соколов в рапорте князю В.А. Долгорукову о положении в Могилёвской губернии писал:
«Многие помещики-поляки Могилёвской губ. участвуют в мятеже против правительства, и многие из них хотя не участвуют явно, но сочувствуют восстанию, крестьяне же, напротив, где только можно, выказывают свою преданность Государю-Императору и, сколько от них зависит, способствуют к подавлению мятежа;
в одно могилёвское уездное управление ими доставлено до 80 чел. разного звания людей, пойманных в лесах и на дорогах, из числа которых хотя и не все, но многие находились в шайках мятежников и впоследствии отстали или отделились, крестьянами также представлено более 30 чел. помещиков, которые, как они утверждают, доставляли продовольствие шайкам или внушали крестьянам не повиноваться русскому правительству и признать над собой владычество Польши и по другим обстоятельствам навлекли на себя их подозрение».
Точное число жертв польских карателей установить трудно.
Сам Муравьёв называл цифру в 500 человек. По информации «Московских ведомостей», на 19 сентября 1863 года количество только повешенных поляками достигло 750 человек. По данным III отделения Собственной Его Императорского Величества канцелярии, за весь 1863 год повстанцы казнили 924 человека. «Энциклопедический словарь» Брокгауза и Ефрона указывает, что число жертв повстанческого террора равнялось примерно 2 тысячам человек.
Бесчинства польских мятежников коснулись семей двух выдающихся уроженцев Белоруссии — лингвиста Антона Семёновича Будиловича и философа Николая Онуфриевича Лосского. Ukrainian Lives Matter: перед кем забыли извиниться поляки
Отец Будиловича получил от поляков извещение о том, что он приговорён к смертной казни «как слишком русский», однако повстанцам не удалось его отыскать.
А вот родственник Лосского не смог избежать расправы: «Дед мой Иван был униатским священником в местечке Усвят (очевидно, он был униатом до 1839 года, а после Полоцкого собора стал православным. — прим. автора). Говорят, он был замучен польскими повстанцами в 1863 году за то, что хорошо объяснял крестьянам значение манифеста об уничтожении крепостного права; они распяли его на кресте».
По отношению к православным священнослужителям повстанцы проявляли особую жестокость. Вероятно, одной из главных причин этого была нарочито антиправославная позиция Калиновского.
«Православие — вера собачья, схизма, которую силой навязали российские власти», — так Винцент Константы характеризовал исконную веру белорусов.
В обозе повстанческого отряда Людвика Нарбутта, орудовавшего в Пинском уезде, была найдена чудовищная по содержанию листовка. На ней изображался повешенный на суку православный священник и содержалась надпись на польском языке:
«Это ты, поп, будешь так висеть, если не исправишься. Если у тебя ещё чешется язык брехать в церкви хлопам бредни, то лучше наколи его шпилькой!! А вороны будут насыщаться твоим телом. Ах, какая же это будет позорная смерть. » Автором сего «шедевра» повстанческой пропаганды предположительно был Франциск Бенедикт Богушевич, будущий отец-основатель белорусского националистического проекта. Когда панов попросили вон: как проходило польское восстание 1863 года на Правобережье
Пожалуй, наиболее известными мучениками за веру, принявшими смерть от рук польских карателей, был священник Даниил Конопасевич.
Он служил в церкви деревни Богушевичи Игуменского уезда Минской губернии. После начала восстания отец Даниил поддержал борьбу белорусских крестьян против польских инсургентов. Кроме того, он проводил отпевание павших в боях с мятежниками воинов русской армии. За это повстанцы приговорили его к смерти.
23 мая 1863 года мятежники убили богушевичского батюшку, повесив его во дворе собственного дома. Пока убийцы находились в Богушевичах, они запрещали снимать тело священника, чтобы оно висело подольше в назидание своим противникам.
В 1907 году в «Братском листке», издававшемся в Минске, было напечатано стихотворение, посвящённое отцу Даниилу. Вот его первые три четверостишья:
Незаметный герой в небогатом селенье
Нашей Минской губернии жил —
Пастырь добрый, учивший о вечном спасенье,
Чистый сердцем — отец Даниил.
Было время крамолы врагов православья:
Бунт затеяла польская знать,
Омрачённая злобой и чувством тщеславья,
Силясь Польшу былую создать.
Там, где исстари русское царство сложилось,
Колыбель нашей веры была,
Вдруг повстанцев мятежная шайка явилась
И народ на мятеж подняла. «Русский голос должен быть слышен»: к 100-летию со дня смерти профессора Кулаковского
Таким образом, Винцент Константы Калиновский, избранный белорусскими националистами в качестве своего героя, полностью соответствует тем негативным характеристикам, которыми националисты необоснованно наделяют Михаила Николаевича Муравьёва-Виленского.
Банды Калиновского развернули террор против мирного населения Белоруссии: нещадно убивали — главным образом вешали — крестьян, православных священников и представителей других социальных групп.
В этой связи будет правильным именовать «вешателем» именно «нашего человека» Калиновского.
Источник
«Истинно русский человек». Миф о «Муравьёве-вешателе»
220 лет назад, 12 октября 1796 года, родился Михаил Муравьёв-Виленский. Русский государственный деятель, одна из самых ненавистных фигур для польских сепаратистов и российских либералов XIX столетия, марксистов XX века и современных националистов-нацистов на землях Западной Руси (Белоруссии). На Муравьёва-Виленского повесили ярлыки «людоеда», «вешателя», обвиняя его в жестоком подавлении Польского восстания 1863 года. Однако при объективном изучении фигуры Михаила Муравьева становится ясно, что это был один из самых крупных государственных деятелей Российской империи, патриотом, который много сделал для укрепления страны.
Граф происходил из древнего дворянского рода Муравьёвых, известного с XV века, давшего России многих видных деятелей. Из одной ветви того же рода происходил и знаменитый декабрист Сергей Муравьёв-Апостол. Интересно, что сам Михаил, которого впоследствии окрестят «вешателем», также имел отношение к «Союзу благоденствия». Он являлся членом его Коренного совета и одним из авторов устава этого тайного общества. К этой детали своей биографии, впрочем, он всегда относился со стыдом, считая свое участие в тайных обществах ошибкой молодости.
Михаил получил хорошее домашнее образование. Отец Николай Николаевич Муравьёв был общественным деятелем, основателем школы колонновожатых, выпускниками которой являлись офицеры Генерального штаба. Матерью Михаила Муравьёва была Александра Михайловна Мордвинова. Братья Муравьёва стали также известными личностями.
В 1810 году Муравьёв поступил в Московский университет на физико-математический факультет, где в возрасте 14 лет при помощи отца основал «Московское общество математиков», целью которого являлось распространение в России математических знаний путём бесплатных публичных лекций по математике и военным наукам. Читал лекции по аналитической и начертательной геометрии, не преподававшимся в университете. 23 декабря 1811 поступил в школу колонновожатых. Был назначен дежурным смотрителем над колонновожатыми и преподавателем математики, а затем экзаменатором при Главном штабе.
Учебу прервала Отечественная война. В апреле 1813 года юноша отправился в 1-ю Западную армию под началом Барклая-де-Толли, расквартированную в Вильно. Затем был в распоряжении начальника штаба Западной армии графа Беннигсена. В 16 лет Михаил едва не погиб: во время Бородинской битвы его ногу повредило вражеское ядро. Молодой человек был одним из защитников батареи Раевского. Ногу удалось спасти, но с этого времени Михаил ходил, опираясь на трость. За бой был награждён орденом Святого Владимира 4-й степени с бантом.
В начале 1813 года после выздоровления снова направился в русскую армию, которая в то время вела боевые действия за границей. Находился при начальнике Главного штаба. Принимал участие в битве под Дрезденом. В марте 1813 г. был произведён в подпоручики. В связи с ухудшением здоровья в 1814 году возвратился в Петербург и в августе этого же года был назначен в гвардейский Генеральный штаб.
После войны с империей Наполеона продолжал военную службу. В 1814-1815 гг. Муравьёв дважды направлялся с особыми поручениями на Кавказ. C 1815 года вернулся к преподаванию в школе колонновожатых, которой руководил его отец. В 1816 году произведён в поручики, в 1817 году — в штабс-капитаны. Участвовал в деятельности тайных обществ т. н. «декабристов». После выступления лейб-гвардии Семёновского полка в 1820 году отошёл от тайной деятельности. В 1820 году был произведён в капитаны, позже переведён в звании подполковника в свиту императора по квартирмейстерской части. В конце года вышел в отставку по состоянию здоровья и поселился в своём имении в Смоленской губернии. Здесь он показал себя рачительным и гуманным помещиком: когда в смоленские земли пришел голод, он в течение нескольких лет организовывал для своих крестьян бесплатную столовую, где ежедневно кормил до 150 крестьян. Благодаря его активности помощь крестьянам губернии наладило и Министерство внутренних дел.
Муравьёв был арестован по делу декабристов и даже провел несколько месяцев в Петропавловской крепости. Однако военные заслуги спасли молодого человека от суда и заключения — по личному распоряжению государя Николая I он был полностью оправдан и освобожден. Милосердие императора тронуло Михаила до глубины души. Из пылкого юноши, мечтавшего о революционном преобразовании России, он превратился в яростного и разумного защитника царского трона. Однако участие в тайных обществах не прошло для Михаила даром: благодаря конспиративному опыту и глубокому знанию психологии заговорщиков он стал самым опасным врагом для различного рода тайных обществ и движений. Именно это впоследствии позволит ему с успехом бороться с польским сепаратизмом.
После освобождения Михаил был снова зачислен на службу с определением в армию. В 1827 году представил императору записку об улучшении местных административных и судебных учреждений и ликвидации в них взяточничества, после чего его перевели в Министерство внутренних дел. Хорошо зная Муравьева как рачительного хозяина, глава МВД граф Кочубей назначил его вице-губернатором в одну из самых проблемных губерний России — Витебскую, а два года спустя — в Могилевскую. В этих губерниях, некогда входившие в состав Речи Посполитой, преобладало русское население. Однако польское дворянство и католическое духовенство составляли доминирующую социальную группу, которая определяла культурное и экономическое развитие Северо-Западного края. Поляки, хотя и стали частью Российской империи, сохраняли надежду восстановление польской государственности (с включением западно- и южнорусских земель) и делали всё для ополячивания русских.
Муравьев с самого начала показал себя настоящим русским патриотом, защищая западнорусское население как от жестокой эксплуатации польскими панами, так и от насильственного их обращения в католицизм. Также он выступал против господства антирусского и пропольского элемента в государственной администрации всех уровней региона (поляки веками ассимилировали социальную верхушку русских и не допускали русское большинство к образованию и системе управления). Граф ясно видел, о чём мечтает польская шляхта: оторвать западнорусское население от общерусской культуры, взрастить население, которое считало бы своей родиной Польшу и враждебно относилось к России.
Поэтому Муравьёв попытался изменить систему подготовки и обучения будущих чиновников. В 1830 году подал записку о необходимости распространения русской системы образования в учебных заведениях Северо-Западного края. По его представлению в январе 1831 года вышел императорский указ об отмене Литовского статута, закрытии Главного трибунала и подчинении жителей края общеимперскому законодательству, введении русского языка в судопроизводстве вместо польского. В 1830 году подал на имя императора записку «О нравственном положении Могилёвской губернии и о способах сближения оной с Российской Империей», а в 1831 — записку «Об учреждении приличного гражданского управления в губерниях, от Польши возвращённых, и уничтожении начал, наиболее служивших к отчуждению оных от России». Предлагал закрытие Виленского университета как оплота иезуитского влияния в крае.
Однако наиболее радикальные меры, которые предлагал граф, не были реализованы правительство. Видимо, зря. Так, Виленский университет так и не закрыли. Когда началось польское восстание 1830-1831 гг., Муравьев принимал участие в его подавлении в чине генерал-квартирмейстера и генерал-полицмейстером при главнокомандующем Резервной армией графе П. А. Толстом. После подавления восстания занимался ведением следственных дел над повстанцами и организацией гражданского управления.
В 1831 году был назначен гродненским губернатором и произведён в генерал-майоры. Будучи губернатором, Муравьёв снискал себе репутацию «истинно русского человека» и бескомпромиссного истребителя крамолы, чрезвычайно строгого администратора. Приложил максимум усилий для ликвидации последствий восстания 1830-1831 гг. и для этого проводил активную русификацию края. То есть пытался уничтожить негативные последствия многовековой польской оккупации русских земель.
Муравьёв отправил на каторгу изменившего присяге фанатичного князя Романа Сангушко и влиятельного преподавателя гродненской доминиканской гимназии ксендза Кандида Зеленко. Дело завершилось упразднением Гродненского доминиканского монастыря с существующей при нём гимназией. В апреле 1834 года в присутствии губернатора произошло торжественное открытие Гродненской гимназии, куда были назначены русские учителя. Также Муравьёв вел церковную работу, приучая униатское население к «возвращению в лоно православной церкви».
В этот период и родился миф о «Муравьеве-вешателе». Причем повод к ней дал самый настоящий исторический анекдот. Якобы во время встречи графа с польскими шляхтичами они попытались укорить Михаила Николаевича родством со знаменитым декабристом: «Не родственник ли вы того Муравьева, которого повесили за мятеж против Государя?». Граф не растерялся: «Я не из тех Муравьевых, которых вешают, я — из тех, которые сами вешают». Свидетельство об этом диалоге не вполне достоверно, но либералы, пересказывая этот исторический анекдот, обозвали графа «вешателем».
Дальнейшая служба. Министр государственных имуществ
В дальнейшем Михаил Николаевич занимал различные должности. Указом Николая I от 12 (24) января 1835 года назначен военным губернатором Курска и курским гражданским губернатором. На этом посту прослужил до 1839 года. В Курске Муравьёв зарекомендовал себя как непримиримый борец с недоимками и коррупцией.
Философ Василий Розанов с удивлением отмечал тот образ, который Муравьев оставил в памяти народной: «Удивляло всегда меня, что где бы я ни встречал (в глухой русской провинции) мелкого чиновничка, бывшего на службе в Северо-Западном крае при Муравьеве, — несмотря на многие годы, протекшие со времени этой службы, самая живая память хранилась о нем. Неизменно на стене — его фотография в рамке, среди самых близких и дорогих лиц; заговоришь ли: не почтение только, но какая-то нежность, тихий восторг светится в воспоминаниях. Ни о ком еще я не слыхал от подчиненных маленьких людей отзывов, столь мало разделенных, так единодушных не в смысле только суждений, но, так сказать, в их тембре, в их оттенках, интонациях».
Далее Муравьёв продолжал служить империи на различных постах. В 1839 году назначен директором Департамента податей и сборов, с 1842 года — сенатор, тайный советник, управляющий Межевым корпусом на правах главного директора и попечитель Константиновского межевого института. В 1849 году ему присвоено звание генерал-лейтенанта. С 1850 года — член Государственного совета и вице-председатель Императорского русского географического общества. С 1856 года генерал от инфантерии. В том же году назначен председателем Департамента уделов Министерства двора и уделов, с 1857 года — министр государственных имуществ.
На этих должностях совершал экспертно-ревизионные поездки, в которых он характеризовался жёстким, принципиальным и неподкупным чиновником. Разрабатывал вопрос об отмене крепостного права. При этом период его деятельности оценивается либеральными исследователями как крайне реакционный из-за того, что министр выступил резко против освобождения крестьян в варианте Ростовцева-Соловьева и стал «злым гением освобождения крестьян», получил ярлык «консерватора и крепостника». При этом Муравьёв не побоялся противостоять политике Александра II. Как отмечает историк И. И. Воронов, «на протяжении всего 1861 г. напряжённость между Александром II и М. Н. Муравьёвым только росла, и вскоре император по существу обвинил министра в скрытом противодействии своей политике по крестьянскому вопросу».
Хотя суть в том, что министр провёл беспрецедентную ревизию и лично объехал всю Россию, проверяя подчиненные учреждения. Чиновник, служивший тогда с Муравьёвым, вспоминал: «Наше ревизионное путешествие по России походило скорее на нашествие, чем на ревизию». По итогам поездки была составлена записка «Замечания о порядке освобождения крестьян». Муравьёв отмечал, что перед освобождением крестьян необходимо: 1) произвести административную реформу на всесословных началах; 2) государство должно вмешаться в процесс расслоения деревни, изучить его, поставить под надзор; 3) необходимо до реформы преодолеть техническую и агрономическую отсталость сельского хозяйства России. Граф предлагал планы широких реформ, провести модернизацию без вестернизации.
Таким образом, Муравьёв рассматривал отмену крепостного права как часть более широкой проблемы — интенсификации аграрного производства, модернизации. А либеральная часть правительства во главе с Александром II рассматривала вопрос отмены крепостного права как «святое дело», то есть идеологический вопрос. Муравьёв понимал, что крепостной вопрос связан с массой проблем, и нужно всё просчитать, принять меры по развитию сельского хозяйства. В последствие оказалось, что он прав, когда проявились серьёзные перекосы в развитии народного хозяйства империи, связанные активным внедрением капиталистических отношений в феодальной, по сути, стране. И отменив патриархальное, уже отмирающее естественным путём крепостное право, правительство получило массу других проблем — земельный вопрос, техническая и агрономическая отсталость сельского хозяйства, превращение значительной части крестьян в маргинальный пролетариат, попадающий в кабалу капиталистам и т. д.
Сопротивление Муравьёва либеральному курсу Александра привело к тому, что в 1862 году оставил пост министра государственных имуществ, и должность председателя Департамента уделов. Официально в связи со слабым здоровьем. Муравьёв вышел в отставку, планируя последние годы своей жизни провести в тишине и спокойствии.
Генерал-губернатор Северо-Западного края
Однако Муравьёв ещё понадобился России. В 1863 году началось новое польское восстание: повстанцы нападали на русские гарнизоны, толпы громили дома русских жителей Варшавы. Марксистские историки будут представлять всё это борьбой за национальное самоопределение. Но в реальности польская «элита» ставила целью восстановление бывшей территории Речи Посполитой, от «моря до моря», собираясь отторгнуть от России не только польские земли, но и Малороссию-Украину с Белоруссией. Восстание было подготовлено постоянными сепаратистскими настроениями польского и полонизированного дворянства и интеллигенции и стало возможным благодаря непоследовательной политике Петербурга в регионе. «Польская мина» была заложена ещё Александром I, который дал польской верхушке широкие льготы и привилегии. В дальнейшем Петербург так и не обезвредил эту «мину», несмотря на восстание 1830-1831 гг. Польская «элита» планировала восстановить государство с помощью Запада, при сохранении господства шляхты и католического духовенства над народными массами (включая западнорусское население). Поэтому большая часть простого народа только проигрывала от этого восстания.
А британская и французская пресса всячески превозносили польских «борцов за свободу», правительства европейских держав потребовали от Александра II немедленно дать свободу Польше. В апреле и июне 1863 года Англия, Австрия, Голландия, Дания, Испания, Италия, Турция, Португалия, Швеция и Ватикан в жёсткой форме потребовали от Петербурга пойти на уступки полякам. Возник политический кризис, вошедший в историю как «военная тревога 1863 года». Кроме того, в самой России возникла угроза кризиса. Во многих петербургских и московских салонах и ресторанах либеральная публика открыто поднимала тост за успехи «польских товарищей». Расширению восстания способствовала к тому же весьма либеральная и доброжелательная к польской общественности политика наместника в Царстве Польском великого князя Константина Николаевича и виленского генерал-губернатора Владимира Назимова. Оба медлили с введением чрезвычайного положения и применением военной силы, в итоге дотянули до того, что мятеж охватил уже всю Польшу и перекинулся в Литву и Белоруссию.
В условиях кризиса понадобился решительный и знающий северо-западный край человек. Император заменил бездеятельного генерал-губернатора Владимира Назимова на графа Муравьева. Назначенный командующим войсками Виленского военного округа пожилой граф, который уже не мог похвастать крепким здоровьем, однако день и ночь работал над подавлением восстания в целых шести губерниях, координируя работу штатских и военных. Историк Е. Ф. Орловский писал: «Невзирая на свои 66 лет от роду работал до 18 часов в сутки, принимая доклады с 5 часов утра. Не выходя из своего кабинета, он управлял 6-ю губерниями; и ещё как искусно управлял!»
Муравьёв применил против повстанцев эффективную противопартизанскую тактику: были сформированы отряды легкой конницы, заместителями командиров которых были представители Отдельного корпуса жандармов. Отряды должны были постоянно маневрировать на выделенной им территории, уничтожая отряды сепаратистов и поддерживая законную власть. Командирам было предписано действовать «решительно», но в тоже время «достойно русского солдата». Одновременно граф лишил повстанцев материально-финансовой базы: он обложил высокими военными налогами имения польских шляхтичей и конфисковал имущество тех из них, которые были замечены в поддержке сепаратистов.
Муравьёв занялся рассмотрением просьб тех служащих лиц польского происхождения, которые еще при прежнем генерал-губернаторе изъявили желание выйти в отставку. Проблема была в том, что еще до его назначения большая часть чиновников‑поляков, чтобы усилить смуту, подала прошения об отставке. Муравьев немедленно и решительно отстранил саботажников от их должностей. После этого чиновники-поляки десятками стали являться к Михаилу Николаевичу и просить прощения. Многих простил, и они энергично содействовали ему в усмирении мятежа. В то же время по всей России приглашались люди на «старинную русскую землю» для работы в присутственных местах. Эти меры избавили государственные учреждения Северо-Западного края от польского влияния. В то же время губернатор открыл широкий доступ к должностям в различных сферах местному православному населению. Так началась русификация местной администрации в Северо-Западном крае.
Также Муравьёв проявил показательную жестокость к зачинщикам восстания. Жесткость, с которой граф занялся подавлением восстания, в действительности помогла избежать куда более большой крови, которая была неизбежна при расширении восстания. Для устрашения колеблющихся граф применял публичные казни, которые заставляли либералов еще яростнее нападать на графа в прессе. И это при том, что казни подвергались лишь те, кто своими руками проливал кровь! Сам граф объяснял свои действия так: «Никакие строгие, но справедливые меры не страшны для народа; они гибельны для законопреступников, но приятны массе людей, сохранивших добрые правила и желающих блага общего». «Я буду милостив и справедлив к честным людям, но строг и беспощаден к тому, кто будет уличен в крамоле. Ни знатность происхождения, ни сан, ни связи — ничто не спасет крамольника от заслуженного наказания».
Всего казни подверглись 128 военных преступников и крупных организаторов экстремистской деятельности (по другим данным — 168), в то время как от их рук пали около 1200 русских офицеров и солдат, в целом же число жертв восстания, по некоторым источникам, достигало 2 тысяч человек. Ещё по разным оценкам 8-12 тыс. человек было отправлено в ссылку, арестантские роты или на каторгу. В основном это были непосредственные участники восстания: представители шляхты и католического духовенства. При этом из всего из около 77 тыс. повстанцев различного рода уголовным наказаниям было подвергнуто всего лишь 16 % их участников, тогда как остальные сумели вернуться домой, не понеся наказания. То есть имперские власти действовали довольно гуманно, наказывая в основном зачинщиков, активистов.
После того как Муравьев обнародовал воззвание ко всем восставшим, призывая их добровольно сдаться, те тысячами стали являться из лесов. С них брали «очистительную присягу» и отпускали по домам. Пожар опасного восстания, который грозил международными осложнениями, потушили.
Приехав в Вильно, сам государь Александр II на смотре войск отдал графу честь — такого не удостаивался еще ни один из его приближенных! Либеральная же российская общественность (действия которой в итоге привели к Февралю 1917 года) пыталась оплевать великого государственного деятеля, называла графа «людоедом». При этом во главе врагов графа Виленского встали губернатор Петербурга Суворов и министр внутренних дел Валуев, которые обвиняли Муравьёва в жестокости и даже покрывали отдельных экстремистов. Но русский народ устами первых национальных поэтов Ф. И. Тютчева, П. А. Вяземского и Н. А. Некрасова воздал хвалу Муравьеву и его деяниям. Некрасов, обращаясь к России и имея в виду Муравьёва написал: «Зри! Над тобой, простерши крылья, Парит архангел Михаил!»
Таким образом, Михаил Муравьев подавил кровавый мятеж, спас тысячи жизней мирных жителей. При этом никто столько не сделал для освобождения русских крестьян от шляхетского гнета.
После подавления восстания Муравьёв провёл ряд важных реформ. Северо-Западный край был населен в основном русскими крестьянами, над которыми паразитировала польская и ополяченная русская верхушка. Русский народ остался без своих дворян, интеллигенции, священников. Доступ к образованию перекрыла шляхта. Русских школ в Северо-Западном крае в то время не было и в принципе не могло быть, потому что и русская школа, и русский письменный язык делопроизводства были полностью искоренены поляками еще в 1596 году по принятии Брестской унии. Не было ни соответствующих учебников, ни преподавателей. Муравьёв начал восстанавливать русскость края.
Чтобы вырвать школьное обучение из рук католического духовенства, его перевели с польского языка на русский. Вместо закрытых гимназий, где до этого учились привилегированные поляки, были открыты уездные и народные училища, в крае были распространены десятки тысяч учебников на русском языке, школа перестала быть элитарной и превратилась в массовую. К началу 1864 года в Северо-Западном крае было открыто 389 народных училища. Из библиотек края были изъяты все антирусские пропагандистские книги и брошюры. Начали массово издаваться книги по истории и культуре России. Во всех городах Северо-Западного края генерал-губернатор приказал заменить все вывески на польском языке на русскоязычные, запретил говорить по-польски в присутственных и общественных местах. Образовательная реформа Муравьева дала возможность зародиться белорусской национальной литературе. Таким образом, в местном образовании произошла настоящая революция. Местная школа перестала быть элитарной и польской, и превратилось практически в массовую, общеимперскую.
Одновременно Муравьёв повёл наступление на польское землевладение, экономическую основу господства польской шляхты. Он провёл настоящую аграрную революцию. Учредил особые поверочные комиссии из чиновников русского происхождения, наделил их правом переделывать незаконно составленные уставные грамоты, возвращать несправедливо отнятые у крестьян земли. Многие шляхтичи потеряли свой дворянский статус. Батраков и безземельных наделял землей, конфискованной у мятежной шляхты. Его администрация разъяснила крестьянам их права. На западнорусских землях при Муравьеве имело место беспрецедентное в Российской империи явление: крестьяне не только были уравнены в правах с помещиками, но и получили приоритет. Их наделы увеличивались почти на четверть. Передача земли из рук восставшей шляхты в руки крестьянства происходила наглядно и быстро. Все это подняло престиж русской власти, но вызвало панику среди польских помещиков (их реально наказывали!).
Также Муравьёв провёл большую роль по восстановлению позиций православия в крае. Власти улучшили материальное положение духовенства, наделили его достаточным количеством земли и казенными помещениями. Граф убедил правительство выделить средства на строительство и ремонт храмов. Генерал-губернатор приглашал со всей России образованных священников на льготных условиях, открывал церковные школы. В центральной России было заказано большое число православных молитвенников, крестиков и икон. Одновременно шла работа по сокращению количества католических монастырей, которые были оплотами польского радикализма.
В результате менее чем за два года огромный край был очищен от польских сепаратистов, революционных деятелей. Северо-западный край был воссоединен с империей и не только силой, а укреплением духовных институтов общества и завоеванием доверия и уважения народа к власти. Произошло восстановление русскости края.
В 1866 году Муравьёв последний раз был призван на службу: он возглавил комиссию по расследованию дела Каракозова, положив таким образом начало борьбе с революционным терроризмом. Рассуждая о причинах теракта, граф Муравьёв сделал мудрый вывод: «горестное событие, совершившееся 4 апреля, есть последствие полного нравственного разврата нашего молодого поколения, подстрекаемого и направляемого к тому в продолжение многих лет необузданностью журналистики и вообще нашей прессы», которая «постепенно колебала основы религии, общественной нравственности, чувства верноподданнической преданности и повиновения властям». Таким образом, Муравьёв верно определил предпосылки будущего падения Российской империи и самодержавия. Нравственная деградация и вестернизация «элиты» Российской империи стала главной предпосылкой падения империи Романовых.
Михаилу Муравьёву оставалось жить недолго: 12 сентября 1866 года он скончался после продолжительной болезни. «Меня удивляла молва о жестокости его, столь твердая в самом русском обществе, — напишет о нем Розанов. — Он был суров, груб; был беспощаден в требовательности; был крут в мерах, как капитан корабля среди взбунтовавшихся матросов. Но «жесток», то есть жаден к чужим страданиям? находивший в них удовольствие. Он не мог быть жестоким уже потому, что был мужествен». Ссылаясь на слова одного из свидетелей восстания, Розанов делал вывод: «Его жестокость есть чистый миф, им же созданный. Правда, были меры крутые, как сожжение имения, где, при соучастии его владельца, были предательски вырезаны безоружные русские батраки… Но что касается казненных собственно — их было до того мало, что нужно удивляться искусству и мастерству, с каким он избег большого их числа».
К сожалению, роль этого выдающегося русского государственного деятеля незаслуженно принижена и забыта. Многие его действия, которые шли на пользу русскому народу и империи, ошельмованы.
Источник