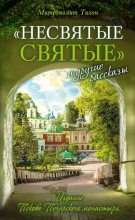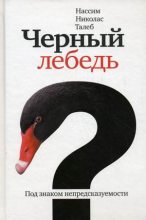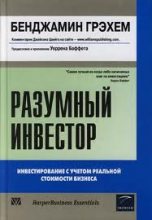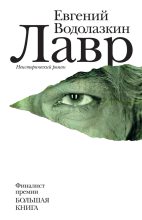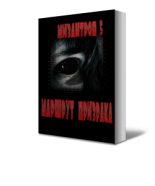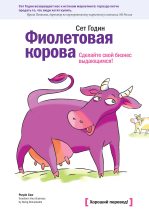Илья Владимирович Утехин
В 1992 году окончил филологический факультет Петербургского университета, защитив диплом на кафедре общего языкознания. На старших курсах увлекся семиотикой и антропологией, а после университета поступил в аспирантуру в Кунсткамеру к А. К. Байбурину, во многом под влиянием учебной программы по теории языка, на которой преподавали А. К. Байбурин и Н. Б. Вахтин. Параллельно учился на буддологической программе, организованной на философском факультете СПбГУ Е. А. Торчиновым и К. Ю. Солониным. В середине 1990-х стал преподавать семиотику в СПбГУ, а затем и в ЕУСПб (с 1996).
В 2000 году защитил диссертацию по этнографии быта больших коммунальных квартир в Ленинграде. Этот исследовательский проект в значительной мере опирался на визуальные материалы, что в дальнейшем вылилось в интерес к визуальной антропологии.
В 2000-х работал в области когнитивной науки и экспериментального исследования коммуникативного взаимодействия, параллельно руководя программой «Семиотика и теория коммуникации” на филологическом факультете СПбГУ.
С 2002 по 2008 год выполнял обязанности декана факультета этнологии ЕУСПб, который в 2008 переименован в факультет антропологии.
Также преподавал в Университете Хельсинки, Институте гуманитарных исследований (Любляна, Словения), Сорбонне, Университете Версаль-Сен-Кантен-ан-Ивелин (Франция), Американском университете в Праге, Центре независимых социологических исследований (Санкт-Петербург, Россия).
С 2006 г. регулярно проводит Открытый семинар по визуальной антропологии в ЕУСПб и книжном магазине «Порядок слов» (http://wordorder.ru ).
Член редколлегии журналов Home Culture (Berg), Лабораториум (ЦНСИ), Социология власти (РАНХиГС).
В 2017 году создал агрегатор альтернативных новостей ONO Media Scope.
Источник
Язык русских тараканов утехин
Пробел четвертый. Считается, что в современной России возобладала ядерная семья. Это верно лишь отчасти. Во-первых, ядерная семья не могла бы столь успешно возделывать пресловутые “шесть соток”, с которых кормится огромная часть нашего населения, о чем неоднократно убедительно писал Симон Кордонский. Во-вторых, доходы наших граждан таковы, что в среднем работающий отец может прокормить и жену, и ребенка в течение весьма ограниченного времени. Чтобы свести концы с концами, мать ребенка должна поскорее вернуться к работе, а роль бесплатной няни придется играть бабушке, даже если для этого ей надо ехать на другой конец большого города, а то и в другой населенный пункт.
Разумеется, нельзя объять необъятное. Но нашлось же в двухтомнике место для двух обстоятельных статей о семейной жизни декабристов в сибирской ссылке — одна работа касается ссыльных, к которым приехали их жены или невесты, другая повествует о декабристах, фактическими женами которых по разным причинам стали представительницы иных, нежели дворянское, сословий.
Такая прихотливость в выборе сюжетов озадачивает.
Удивил меня и стиль многих публикаций. Во-первых, слова дискурс и дискурсивный во всевозможных сочетаниях употребляются многими авторами с частотой, извинительной разве что для студентов-первокурсников. Мировоззрение, миропонимание, теория, модель, ракурс, позиция, мнение, убеждение, точка зрения — все эти слова вытеснены на обочину вездесущим дискурсом . Во-вторых, недоумение вызывает изобилие ссылок на труды авторов из определенной “обоймы”. Сами по себе подобные ссылки могут быть необходимы или хотя бы уместны, но слишком часто они всего лишь орнаментальны. Так, именно орнаментальными выглядят ссылки на Соссюра, Фрейда, Волошинова, Проппа, Леви-Строса, Тынянова, Б. Успенского, Кристеву и М. Мосса в работе Д. Бычкова о жизни детей и подростков в интернатах. В контексте “надзирать и наказывать” естественны отсылки к Фуко и Бурдье, но при обсуждении проблемы сиротства странно не упомянуть Януша Корчака, зато сослаться на “Поэтику композиции” Б. Успенского.
Тем же грешат и авторы других статей. Впрочем, в немалой степени подобный упрек я бы адресовала и составителю. Например, С. Ушакин объясняет композицию рецензируемого сборника, ссылаясь на “монтажное восприятие”, характерное для кино и того стиля эссеистики, который в русской литературе блистательно воплотил Виктор Шкловский. Следует цитата из работы Шкловского об Эйзенштейне, заканчивающаяся фразой: “И вне монтажного восприятия, вероятно, восприятия нет. ” Но понятие монтажа уже давно стало обиходным. Поэтому попытка построить сборник научных статей в надежде на эффект, порождаемый соединением на первый взгляд несоотносимого, с моей точки зрения, не нуждается в “подпорках” в виде ссылки на Шкловского — либо эта попытка удачна, либо нет.
К счастью, в двухтомнике есть и другие “модели” — если не для сборки, то для разумного подражания. Четыре статьи, такие разные и по стилю, и по теме, показались мне в равной степени интересными и даже образцовыми — каждая в своем роде.
Это работа Ильи Утехина о словесном насилии “Язык русских тараканов (к постановке вопроса)”, уже упоминавшаяся статья Линн Виссон о трудностях воспитания детей в русско-американских семьях, статья Сюзан Рид “Быт — не частное дело” и исследование Дмитрия Воронцова, посвященное стабильным мужским гомосексуальным парам.
Илья Утехин показал себя тонким аналитиком обыденности еще в книге “Очерки коммунального быта” (М., 2004). В контексте обсуждаемой статьи “тараканы” — это что-то вроде “пунктиков” или “заскоков”. Утехин анализирует такой способ общения в семье, при котором насилие осуществляется только через слово, зато неуклонно и предельно болезненно. Чаще всего старшие или “сильные” кричат на младших или “слабых”, якобы призывая их внять голосу здравого рассудка, а на деле осуществляя принцип “ты виноват уж тем, что хочется мне кушать”. Ведь фразы наподобие “ Отвечай, я тебя спрашиваю!” отнюдь не предполагают ответа. В качестве убедительного примера речевого насилия автор проанализировал стратегию общения Фомы Опискина из “Села Степанчикова” Достоевского. Суть подобного речевого насилия, по мнению Утехина, в том, что жертва “связана” невозможностью ни согласиться с высказыванием своего “палача”, ни оспорить его, ибо последний для “жертвы” слишком значим — в конечном счете просто любим.
Утехин полагает, что первым проанализировал ту же, что описанная Достоевским, схему коммуникации Грегори Бейтсон — американский антрополог, который назвал ее “схизмогенезом” — то есть поведением, лишающим личность возможности оставаться собой, вынуждающим “слабого” как бы раздваиваться. Введенный Бейтсоном (и прославивший его!) термин double bind в англо-американской научной традиции сыграл парадоксальную роль, сходную с бахтинским понятием диалога. (Утехин переводит double bind как “двойное связывание”, я бы перевела метафорой “двойной морской”, то есть узел, затягивающийся тем туже, чем больше натягивать концы веревки.) С помощью double bind пытались объяснить разные личностные конфликты, включая не только неврозы (это как раз естественно), но также и процессуально текущие психические заболевания — например, шизофрению с характерными для нее глубинными личностными изменениями (что по меньшей мере непродуктивно).
Статья Линн Виссон “Уроки воспитания Вани Смита: дети в российско-американских браках” посвящена проблемам воспитания детей в смешанных браках, обусловленных разными культурными нормативами в отношениях между детьми и родителями. Статья основана на опросах 150 супружеских пар из русско-американских семей, живущих в США и в России. В Америке родители могут заплатить ребенку за то, что он выполнил какую-то несложную работу по дому или саду; вне зависимости от материального положения семьи поощряется желание ребенка как можно раньше начать зарабатывать себе деньги на карманные расходы; американские отцы несут ббольшую
Источник
Очерки коммунального быта
Издательство ОГИ и Центр типологии и семиотики фольклора при Институте высших гуманитарных исследований РГГУ выпустили в серии «Нация и культура. Антропология /фольклор» второе, дополненное издание книги (первое вышло в 2000 г.) лингвиста и семиотика Ильи Утехина «Очерки коммунального быта» – редкий случай, когда сугубо научное издание разошлось как бестселлер и потребовало дополнительного тиража.
Самое поразительное в коммунальном жилье – то, что оно до сих пор существует.
В своей истории коммунальная квартира (зачастую из бывших особняков) пережила и эпоху ранних экспериментов – с 1918 по 1933 год, и периоды «классики» 1930–40-х и 1950–60–70-х годов, и не одну волну расселения (самая значительная прокатилась в послеперестроечное время). Со времен «города-сада» до XXI века сменилось столько – от социокультурных приоритетов до методов строительства – что самым своевременным было бы признать коммунальную квартиру культурным реликтом. Но оказалось, что у нее будет еще и пост-история. Местом полевых исследований этнографа Утехина станет не советский Ленинград, а Петербург конца 1990-х – современная «коммунальная столица России»1.
Автор «Очерков коммунального быта» исходит из положения, что «к быту относится как раз та часть повседневного, которая напрямую зависит от организации жилища и отношений, в которые человек вступает у себя дома». В книге воссоздается картина быта как целостная картина мира обитателей коммунальной квартиры. На первом плане стоит семиотика пространства: принципы организации и восприятия пространства приватного (коммунальной комнаты) и публичного («мест общего пользования»): кухни и коридора, так называемой «пустой комнаты», парадной и черной лестницы, подъезда и городских окрестностей.
Рассмотрены также наиболее традиционные для этнографии понятия о принципах справедливости, об идее «своего» и «чужого», «чистого» и «грязного», о сглазе, которые роднят современное коммунальное общежитие с традиционной культурой.
Картина мира включает также коммуникацию в рамках локального со- общества. Сосуществование людей разного пола и разного возраста ведет к повседневным малым сражениям. Автор детально анализирует стратегии по- ведения и повседневные практики обитателей, личностную сферу индивида и этикетные нормы общения между людьми, принципы самоорганизации сообщества, авторитет и лидерство, маргинальность и образ «чужого», типологию конфликтов и способы их разрешения, а также специфические формы психопатологии «на кухонной почве». Все это с потрясающей жизненностью звучит в многочисленных интервью опрошенных в ходе полевой работы жильцов 20 петербургских коммунальных квартир.
Этнографическая детальность описания и семиотическая система анализа дает автору возможность при воссоздании коммунального быта концептуализировать совершенно знакомые и привычные вещи, именно этот «эффект узнавания» и захватывает читателя: «Насколько возможно, обеденный стол стараются поставить посередине комнаты, под лампой или люстрой. Стол накрыт скатертью или клеенкой, часто клеенка или прозрачная полиэтиленовая пленка постелена поверх скатерти. На столе постоянно находятся деревянные или су- конные подставки для чайника или кухонной посуды, которую приносят с кухни, так как обычно пища раскладывается по тарелкам в комнате… Здесь же часто присутствуют разнообразные предметы, никак не связанные с едой: га- зеты, лекарства, документы, карандаши и т.д.; во время повседневного приема пищи их обычно не убирают, в отличие от торжественного застолья» (гл. «Карта и территория»). Не случайно постоянное применение в тексте глаголь- ной формы «настоящее расширенное»: действие осуществляется в момент речи, но предполагается, что оно происходило и в прошлом, и будет совершаться и в будущем, и в выводах неизменны слова «обычно», «как правило», «часто», «нередко» – в общем, «всегда».
Основные сюжеты коммунальной драмы разыгрываются на границе при- ватного и публичного. Этой проблеме в книге посвящена специальная глава «На сцене жизни и в кулисах души», но наблюдения вокруг главного сюжетного узла содержатся во всем тексте. Обобщения позволяют формулировать законы коммунального быта: «Линия поведения человека, когда его никто не видит, может отличаться от того, что выходит на поверхность и становится известным окружающим»; закон проекции собственных прегрешений на других участников сообщества (глава «Опасность чистоты»); принцип минимального достаточного действия, когда выбирается наиболее эффективная линия поведения, требующая минимальных затрат труда и ресурсов.
Характерно ли это для человеческого рода вообще? – задается вопросом автор и отвечает: не так важно, для исследования существенно лишь, что эти мыслительные привычки составляют область само собой разумеющегося для носителей традиционного коммунального мировоззрения. Но уровень обобщения глубоко впечатляет читателя.
В книге Утехина практически вынесено за скобки самое, казалось бы, привлекательное в коммунальной теме: история Утопии. Автора уже не интересует генеалогия дома-коммуны, зияющие высоты грандиозного урбанистического эксперимента, оптимизм и энтузиазм индустриализации, сама та идеология, которая некогда стремилась трансформировать сознание человека через его привычки и его быт как таковой. Утопия описана у Б. Гройса, П. Вайля, А. Гениса, И. Кабакова, В. Паперного, в истории архитектуры – у В. Хазановой и С. Хан-Магомедова, в социологии – у Е. Герасимовой. Все, Утопия уже сделала что могла. Все очень запущено. Антропология повседневности сосредоточена на материале жизненных деталей как на ее отдаленных последствиях.
Поэтому, вероятно, и интонация автора отличается от мажорной поры, когда в науке свежо и смело открывали советизм в порядке кэмпа-эстетски и иронически любуясь его махровой стилистикой. Утехин пишет наблюдательно и проницательно, но тексты его, хоть не чужды иронии, скорее меланхоличны. В виртуозном очерке «Карта и территория», анализирующем пространство коммунальной квартиры, например, как вздох звучит ремарка: «Визуальная доступность и возможность пройти до некоторой степени ограничена специфическим режимом освещения». Или, в «Очерке о краже»: «По отношению к пьяницам процедура изъятия украденного предмета (чаще всего ложки или другого предмета посуды) – довольно обычное явление; впрочем, котлету, украденную со сковородки, уже не вернешь».
Современное гуманитарное исследование не чуждается субъективности. Самое волнующее в «Очерках…» – обмолвка автора о собственном более чем тридцатилетнем опыте проживания в коммунальной квартире. В данном житейском случае методологические вопросы о позиции наблюдателя, о разнице между употреблением «речи» и знанием «грамматики», о «дистанции» и внеположенности поднимаются до уровня автореференции. Включенный наблюдатель, как признает автор, оказывается перед самим собой в двойственной позиции, будучи одновременно честным жильцом коммунальной квартиры и аналитиком. Автор «старается ничего от себя не скрыть, быть откровенным в выводах относительно мотивов собственных поступков и мыслей». Автор – Посторонний, он иронично сравнивает себя в коммуналке с дотошным иностранцем из благополучной Европы; изредка в его речи звучит особенно актуальная для коммунальной жизни ученая латынь. У наблюдаемых же им «носителей традиции» стратегии поведения на коммунальной кухне включают пользование собственными рукавами вместо тряпки-прихватки и вывешивание в туалете просроченного календаря (потому что он бесполезен и заодно маскирует дефекты стены, можно не ремонтировать); им присуща вера в сглаз и подозрение, что нечист именно тот, кто ежедневно моется.
Дистанция между наблюдателем и наблюдаемыми ясна по умолчанию. Но все же неизбежно, что «жилец может быть пенсионеркой, продавщицей, профессором, сталеваром или прорабом на стройке… специалистом по полевой этнографии; в сущности, с точки зрения коммунального быта это никого не интересует. Он жилец, и этим он и интересен. Не его жизнь и мнения в целом, но какая-то их часть обусловлены именно тем, что он жилец коммунальной квартиры».
Сопереживающий читатель по ходу не только обогащается познанием из новейшей этносемиотики, но самостоятельно приходит к вполне жизненному выводу: посетите коммуналку, пока она не посетила вас! По прочтении думаешь, что счастье не в том, чтобы прожить жизнь в отдельной квартире. Счастье – прожить, не узнав себя до конца.
Методологическая рефлексия, о которой говорилось выше, нашла в книге существенное место. Точнее, свободный жанр очерка ею не особенно скован, вся рефлексия вынесена в заключительную главу «Заметки о наблюдателе», которая, увы, отягощает книгу, ибо чрезмерно тщательно и отчасти схоластически построена на известном семиотическом катехизисе (язык – речь – норма – запрет – символическое поведение – ритуал – этикет и т.д.). Там же автор отдает дань вечным вопросам о том, что есть семиотика, о методологических претензиях семиотики и о неготовности самих семиотиков дать ей определение. Но думается, очевидная прикладная ценность исследования вовсе не нуждалась в этикетном оформлении.
Книга проиллюстрирована «атмосферными» фотографиями, выполненными самим автором и фотографом Николаем Туркиным. Не менее увлекательно, чем тексты, читаются приложения: «Примерный вопросник для этнографического обследования быта коммунальной квартиры»; официальные и самодеятельные «Правила поведения в коммунальной квартире» и «Краткий словарь терминов, относящихся к коммунальному быту Санкт-Петербурга»: «Подменить – разновидность присвоения чужого имущества, когда вместо присвоенного предмета жертве оставляют аналогичный предмет худшего качества; наряду с кражей встречается как в реальной повседневности, так и в бредовых фантазиях отдельных жильцов»; «Угощать – делиться с соседями едой или напитками, не входящими в обычное повседневное меню; типичный предмет угощения – пироги».
Анонсы в Сети новых работ Ильи Утехина «Происки постороннего (из материалов по жилищному вопросу)», «Язык русских тараканов (к постановке вопроса)», «Из наблюдений над поэтикой жалобы» оставляют читателя ждать продолжения саги о квартирном вопросе.
Источник